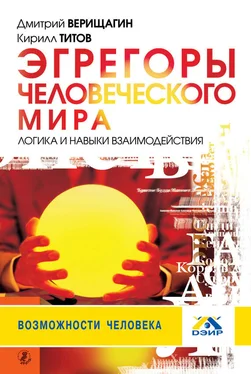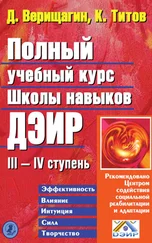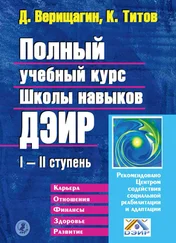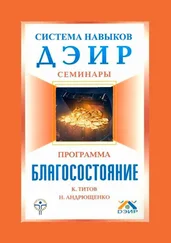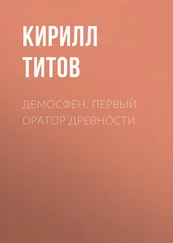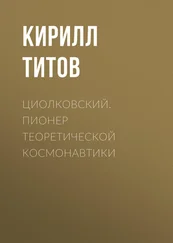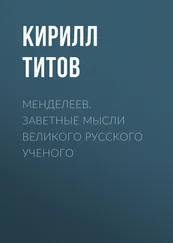Во-вторых, сознание на это просто неспособно. Оно может удержать вниманием только один объект в единицу времени, может удержать в оперативной памяти семь плюс-минус две фигуры, и не мудрено, что влияние эгрегора на огромное количество элементов субъективного пространства остается просто незаметным и наше внимание принимает за чистую монету возникшие под влиянием эгрегора подтасовки.
Во внимании и его распределении и кроется секрет способа избегания эгрегориального влияния. Дело в том, что наше внимание берет в прицел элементы субъективного пространства по его «интенсивности», то есть «яркости», «значимости», «отличности от других» фигуры. Так мы непроизвольно обращаем внимание на самый яркий, движущийся или самый значимый предмет или мысль (они все равно находятся в субъективном пространстве). А эта «яркость» обусловливается двумя факторами.
Первый – это сила и контрастность сигналов среды, воспринятых нашими рецепторами, воспроизведенными памятью по ассоциации с воспринятыми и вообще всеми поданными памятью. Яркость, громкость, вкус, запах, сила, цвет, контраст с фоном, движение…
Это все сильные и стабильные раздражители, в которых, как правило, тяжело ошибиться, они распознаются однозначно и безошибочно, потому что непрерывно подтверждаются продолжающимися сигналами.
Второй – это отношения, значения, абстрактные и отдаленные ассоциации, смыслы, текущие оценки, неясные ожидания, вызываемые чувства, тончайшие оценки состояний… все, что связанно прилагается к предмету мышления, в том числе и воспринятому, и просто окружает его как фон. А вот это сигналы более слабые, многообразные, принимаемые сознанием за данность, текучие, в особенности оценки, которые почти не запоминаются, меняются с каждой новой мыслью и воспоминанием, но они ведь куда более важны для результата мышления.
Цвет, форма и размер мысли или воспринятого предмета намного менее важны, чем что это означает, что с этим делать и как его хочется и нужно применить в данном окружении. И именно значение направит процесс нашего мышления. И внимание, как психоэнергетическая функция, сортирует фигуры, стараясь выбрать самую яркую по комбинации первого и второго фактора.
Поэтому наше внимание, если мы не сосредоточены на мышлении, западает автоматически на самые объективно яркие объекты. А вот если мы сосредоточимся, то есть усилим при помощи волевой функции внимания слабые факторы, то в определенных пределах сможем концентрировать внимание на раздражителях совсем слабых, как настройщик способен уловить самые тонкие диссонансы звучания струн, но при большом шуме он просто не сможет сосредоточиться, так как интенсивность шума будет подавляющей.
Поскольку влияние эгрегоров осуществляется именно на элементы субъективного пространства, причем эгрегор физически не двигает предметы (разве только руками других людей), не делает их ярче или громче, то соответственно и влияет эгрегор на значимые для нашего внимания факторы второго рода.
То есть на слабые, но определяющие факторы субъективного пространства. И поэтому как факт воздействия мы его не замечаем, но принимаем последствия этого воздействия как собственные мысли, созданные свободно и произвольно никем, кроме нас, не управляемым мышлением.
В результате такое «измененное» значение участвует как переменная в анализе предмета мышления, изменяет его дальнейшую судьбу и соотношение с другими вещами, и все это запоминается, фиксируясь уже на постоянной основе, а при повторном воспроизведении усиливая восприимчивость к направленным слабоосознаваемым влияниям… Вот он, эгрегориальный контроль.
Но уже описанные особенности нашего внимания и позволят нам избежать влияния эгрегора даже в ситуации временной энергетической открытости. И это довольно просто: раз внимание сортирует элементы субъективного пространства по их яркости, то у него есть определенный порог восприятия. А раз этих элементов много, то и выражен этот порог не в каких-то абсолютный единицах, а в относительных. В сравнении друг с другом.
Соответственно, наше внимание замечает элементы субъективного пространства, во-первых, отличающихся от окружающего их фона на пороговый процент величины, а во-вторых, начинает к ним относиться по-другому только тогда, когда они изменяются больше, чем на определенный процент по сравнению с фоном и от исходного.
И только тогда эти изменения фигуры сказываются на мышлении, изменяя исходный, присущий самому человеку, свободный ход мыслей. Значит, для того чтобы информационное влияние эгрегора было сведено к нулю, нам всего-навсего необходимо сделать так, чтобы собственные, наши, свободно выработанные значения имели такие величины, что любое влияние, которое могут оказать на них эгрегоры, оказалось бы подпороговым, слишком незначительным и потому никак не отражающимся на нас.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу