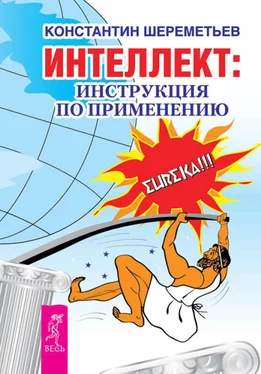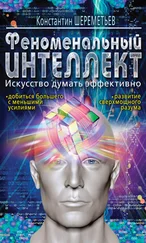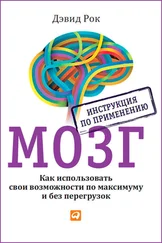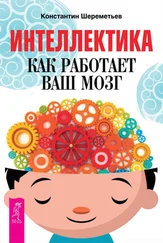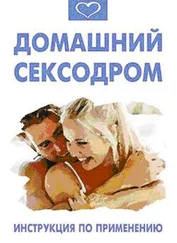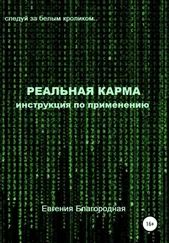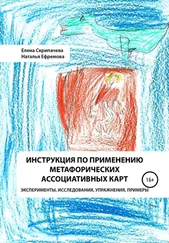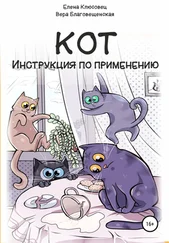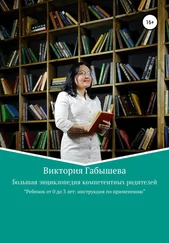А у вас есть проблемы, которые кажутся нерешаемыми? Включите интеллект!
Как прекратить ненужное общение
В предыдущем разделе мы говорили о том, как участники вебинара «Супер-интеллект» учились общаться и «включать» собеседников.
Но это задание породило много вопросов на тему «включить – это хорошо, а как выключить?» Один из вопросов был таким:
Проблема в том, что большинство людей в состоянии говорить только на интересующие их темы или о себе. Как быть, когда мне это, мягко говоря, не интересно и жалко впустую утекающего времени? Как переключить на что-то другое? Речь не идет о проблемной ситуации, когда выслушаешь, посочувствуешь, предложишь помощь. В подавляющем большинстве случаев – это просто бесполезный треп. Как его избегать?
Как это ни странно, но проблема прекращения ненужного трепа не в собеседнике. Она в вас. Если вы себя уважаете и цените свое время, то продолжать не нужный вам разговор вы просто не сможете физически. Вам станет нехорошо от того, что вы впустую тратите время вашей жизни на то, что вам совершенно не нужно.
Технически разговор прекращается простым приемом, который называется «Отдаление». Вы постепенно делаете ваши ответы все более короткими: «Понятно, ладно, ага, угу…» и постепенно отдаляетесь от собеседника. Отодвигаетесь, встаете, начинаете одеваться.
В сложных случаях, когда собеседник держит вас за пуговицу и не отпускает, вы можете прямо сказать, что у вас сейчас срочное дело.
Цените себя, и пустого трепа в вашей жизни будет намного меньше.
Последняя исключительность
В списке литературы, которую я рекомендую прочитать каждому, на первом месте идет повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это самая важная повесть, потому что говорит о ловушке последней исключительности:
– Я настолько исключителен, что никогда не умру. Другие, конечно, умрут. Но ведь я – не другие. Я – исключителен!
Попадая в эту ловушку, человек перестает жить сейчас, а все время откладывает жизнь на потом. Сейчас можно убивать время, смотреть сериалы, обсуждать чужую жизнь, ходить на нелюбимую работу, тосковать и чего-то ждать. Ждать, что когда-то потом придет совершенно другая жизнь, в этой другой жизни будет все прекрасно и сложится само собой. Вот тогда и буду жить, а пока надо погодить.
Недавно в книге американского психотерапевта Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия» я прочитал замечательный комментарий к повести Толстого, подтвержденный профессиональным опытом автора. Этот комментарий показался мне настолько важным, что я привожу его целиком.

Глубокая иррациональная вера в нашу собственную исключительность никем не описана с такой силой и выразительностью, как Львом Толстым, который устами Ивана Ильича говорит:
«В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.
Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: «Кай – человек, люди смертны, поэтому Кай смертен», казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо, но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо, он был Ваня с мамой, с папой, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?
И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».
Каждый из нас знает, что по отношению к конечным данностям существования ничем не отличается от остальных. На сознательном уровне никто этого не отрицает. Однако в самой глубине души мы, подобно Ивану Ильичу, верим, что другие, конечно, смертны, но уж никак не мы. Иногда эта вера прорывается в сознание, заставая нас врасплох, и тогда мы изумляемся собственной иррациональности. Например, недавно я посетил своего офтальмолога, жалуясь на то, что мои очки помогают мне уже не так хорошо, как прежде. Он обследовал мои глаза и спросил возраст. Я сказал: «Сорок восемь», и получил ответ «Да, как по расписанию». Откуда-то из глубины меня поднялась и зашипела мысль: «Какое еще расписание? Для кого расписание? Расписание может быть для тебя или других, но определенно не для меня».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу