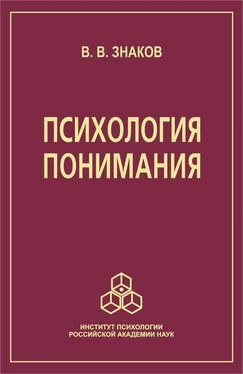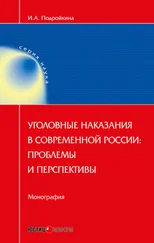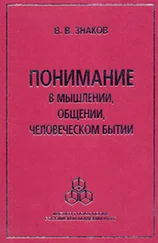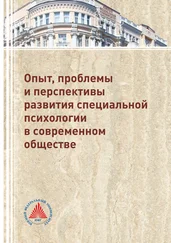В наше время неразрывная связь знания с особенностями личности получающего его ученого стала очевидным фактом не только для психологов, но и для многих философов, осмысливающих методологические основания познания. И наиболее проницательные из них отчетливо понимают, что в современной науке происходит пересмотр оснований традиции гносеологической и логико-методологической трактовки истины, сформировавшейся в идеалах рационального научного познания, и обращение к экзистенциально-антропологической традиции истины, укорененной в проблеме бытия субъекта (Микешина, Опенков, 1997). Гносеологические корреспондентный и когерентный подходы к анализу истины опираются на первую традицию: они отвлекаются от субъекта и ориентируются на знание и познавательные процедуры, имеющие нормативный характер. В противоположность этому в рамках второй из названных традиций, как справедливо отмечает Л.А. Микешина, «сам субъект предстает правомерным и необходимым основанием для истины как соответствия знания предмету и соответствия предмета понятию. Субъект – основание, поскольку он есть представленность социального и культурно-исторического опыта, предметно-практической деятельности, через которые и очерчивается круг непотаенности, доступности сущего и удостоверяется истина. Человек не обладатель истины и не ее распорядитель, но условие возможности и основание ее понимания и выявления либо в предмете, либо в знании» (там же, с. 72).
Экзистенциально-антропологическая традиция интерпретации истинности научного знания ставит во главу угла ведущую роль субъектного деятельностного начала в познании и одновременно ставит вопрос о сущности истины, не сводящейся к адекватности как совпадению образа и объекта. Согласно этой традиции, истина является характеристикой не только знания об объекте, но и в значительной мере знания о субъекте. С этих позиций не может быть принято традиционное материалистическое определение истины как адекватного отражения объекта познающим субъектом, воспроизведение его таким, каким он существует сам по себе, вне и независимо от человека и его сознания. «Субъект "творит" истину, преобразуя объект, себя и свое знание о мире и объекте» (там же, с. бб). Положение о том, что истина есть не только соответствие знания вещи, предмету, но и соответствие предмета своему понятию, в современной методологии научного познания оценивается как несомненное достижение философской мысли, с необходимостью входящее в целостное понимание истины (хотя справедливости ради нужно сказать, что эта мысль неоднократно высказывалась и обсуждалась еще С.Л. Рубинштейном).
Таким образом, в наши дни гносеологический анализ познания невозможен без учета психологических особенностей личности познающего субъекта. Однако теория познания, гносеология, по самой своей сути, должна обращать внимание только на характеристики адекватности отражения действительности в истинном знании и отвлекаться от субъективных способов конкретного отражения адекватности в сознании познающего субъекта. В этой связи большое значение приобретают психологические исследования, показывающие «меру вовлеченности» особенностей личности, интеллекта и мировоззрения субъекта в процессы формирования им мнений об истинности знаний, получаемых в различных познавательных и коммуникативных ситуациях.
Сегодня большое значение приобретает изучение таких междисциплинарных проблем, которые, безусловно, значимы и для точных наук, и для социогуманитарного познания. Одной из наиболее показательной в этом плане является проблема понимания. Для современной науки одинаково важно исследовать и когнитивные, познавательные, и экзистенциальные, бытийные, аспекты этой проблемы. Однако следует признать, что первоначально научные исследования понимания, проводившиеся преимущественно в рамках философии, были направлены главным образом на анализ изучения роли понимания именно в познании.
В классической философии проблема понимания была поставлена как проблема знания о знании. Развитие этого положения в современной теории познания пошло по линии истолкования понимания как метазнания: понимание не существует вне знания, оно является определенной формой знания (Селицкая, 1976). Для обоснования этого тезиса предпринимаются попытки объяснить понимание посредством различных форм знания, причем первое иногда отождествляется со вторым. В частности, С.Ф. Зак считает, что «понимание является наиболее глубоким видом знания и достигается лишь там, где знание приводится в определенную систему» (Автономова, Филатов, 1981, с. 168). Кроме того, существует точка зрения, согласно которой понимание – не только результат познания человеком предметной действительности, т. е. знание, но прежде всего сам процесс все более глубокого проникновения в сущность изучаемого, специфический способ познания или «набор особых познавательных процедур» (Ракитов, 1986).
Читать дальше