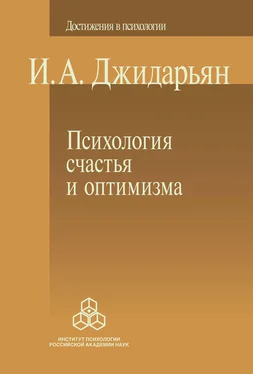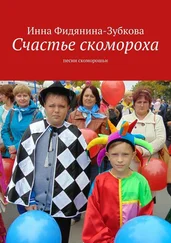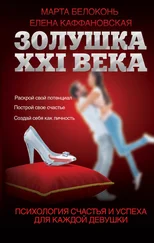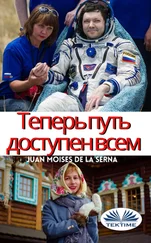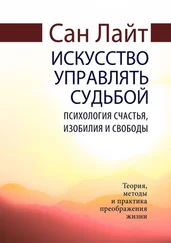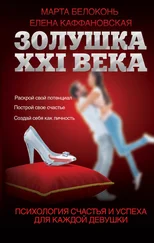Как известно, в российской истории тема национального самосознания и исторической судьбы народа возникала не раз, обостряясь в переломные эпохи социальных преобразований и общественных потрясений, глубоких реформирований и водоворотов. Одна из опасностей таких периодов, не без оснований считал Н. О. Лосский, состоит в том, что тяжелые годы внешних и внутренних потрясений истощают силы народа и, как бы ни был могуч его национальный характер, и у него «в такие периоды может развиться недоверие к себе и опасная подражательность» (Лосский, 1991, с. 324). Сегодня российское общество вновь переживает тяжелый период своего развития: оно поражено глубоким экономическим и нравственным кризисом; оно на распутье, растеряно. Никто не знает ни точных рецептов, ни четких ориентиров, ни своего будущего, но уже, к сожалению, вместо переосмысления и критического использования своего собственного развития снова перечеркивается и обесценивается многое из того, что было нашим недавним прошлым, определяло наши идеалы, ценности, святыни и стало достоянием духовного опыта и исторических переживаний народа. И будто о нас, обратившихся за национальным спасением к ценностям капиталистического Запада, думал много десятилетий тому назад известный мыслитель и патриот России И. А. Ильин, когда писал из капиталистического зарубежья: «Так не будем же отрекаться от наших сокровищ и не будем искать спасения в механической пустоте „американизма“» (цит. по: Георгиева, 1998, с. 416).
В условиях новых реформ с их четко выраженным поворотом в сторону ценностей западного образа жизни и торгово-рыночных отношений в общественной жизни, когда средствами массовой информации угрожающими темпами идет «вестернизация» отечественной культуры, закономерным представляется интерес многих наших ученых к проблеме российского менталитета, истории русской культуры, традиционным национальным ценностям, многовековому духовно-нравственному опыту народа (см.: Георигиева, 1998; Клибанов, 1994; Лотман, 1994; Ментальность россиян, 1997; Российская ментальность…, 1994; Российский менталитет…, 1996; Россия и Европа, 1992; Русские, 1997).
В русле этого интереса задумана и написана настоящая книга, в которой сделана попытка рассмотреть проблему счастья в контексте и на основе российского менталитета.
Анализируя проблему счастья в ее русско-национальных проявлениях, мы опирались на самые различные источники, использовали не только специальные научные работы и результаты конкретных эмпирических исследований, но и произведения русской художественной литературы и поэзии, включая народное творчество, высказывания наших известных мыслителей, деятелей искусства и литературы.
* * *
Традиционная для русского сознания моральность с ее многосторонними и многотрудными поисками абсолютного добра и духовного смысла во всем, что затрагивает основы бытия и человеческого существования в мире, в полной мере обнаруживает себя и в отношении счастья-несчастья. Однако проблема для нас не просто в наличии этой моральной доминанты, в преобладании духовно-нравственной точки зрения над всеми другими в представлениях и рассуждениях о счастье, а в содержательных характеристиках самой нравственности, в раскрытии ее российской ментальности.
Известно, что нравственная проблематика счастья в различных своих аспектах возникла и активно разрабатывалась еще в древнегреческой философии (Платон, Сенека, стоики и др.). Однако ее дальнейшее развитие, а также возможность огромного влияния на культуру и сознание европейских народов оказались непосредственно связанными с христианским вероучением. «Благословенны плачущие» – один из лейтмотивов Евангелия от Матфея, согласно которому счастье является сверхъестественным даром, заслугой за нравственные добродетели, прежде всего, за терпение и кротость в борьбе с трудностями, за честность и справедливость, за лишения и страдания в земной жизни. С распространением религиозного сознания в этической проблематике счастья усиливалась тема аскезы, страдания, отказа от искушений и чувственных удовольствий.
Особенно сильным на формирование национального самосознания и характера русского народа, на его культуру, на весь нравственно-духовный облик было влияние православного христианства – и для этого были свои причины, о которых речь пойдет ниже. На протяжении тысячелетней российской истории православная идеология органично переплелась с традициями, верованиями, умонастроением и мировосприятием народа, и это дает основание говорить многим авторам не просто о русском, а о русско-православном менталитете (В поиске социальной парадигмы…, 1995, с. 65). По крайней мере, не вызывает сомнений огромная роль православия в формировании той системы представлений и чувствований русского народа, которые определили его жизненную философию счастья.
Читать дальше