Мы настолько привыкли к этой «данности», считаем этот процесс «индивидуального омышливания» настолько тривиальным делом, что совершенно не замечаем уникальности и даже некоторой странности этого феномена.
252. Допустим, что знаки нашего языка усваиваются ребенком условно-рефлекторно. Этому фокусу, как известно, и обезьяну можно обучить. Но почему обезьяна дальше не обучается, а человек совершает этот фундаментальный скачок – от слов к мышлению? Что заставляет его интроецировать эти знаки, превратить их в специфические внутренние комплексы – интеллектуальные объекты с символической функцией?
Думаю, при всем желании мы не найдем другого объяснения этой загадке, кроме как в сочетании специфического социального давления, заданного культурно-исторической матрицей, с одной стороны, и попыток ребенка как-то самому воздействовать на эту социальную матрицу, управляя (манипулируя) поведением взрослых (после того, как он в нее встроился) – с другой.
Именно использование знаков, связанных с определенными внутренними состояниями, позволяет ребенку так организовывать себя, чтобы добиться желаемого поведения взрослых. Именно этой «организации себя» взрослые требуют от ребенка, и именно эта «организация себя» ребенком позволяет ему сделать то, что нужно взрослому, и получить за это ожидаемое «подкрепление».
Интроецированные нами знаки усложняют сами наши состояния (значения), рисуют богатую палитру возникающих возможностей социальной коммуникации, включают ребенка в социальную игру, из которой он пока исключен, и, по сути, выталкивают его личностное «я» на поверхность осознания.
Впрочем, и вся дальнейшая история становления мышления в онтогенезе – это социообусловленный процесс. «Когнитивен» он только по формальным признакам, а сущностно это всё те же социальные отношения, преломлённые в нас так .
253. Следующий вопрос, на который необходимо здесь ответить: зачем вообще вводить такие абстрактные сущности, как «внутреннее пространство мышления», «плоскость мышления», «пространство мышления»?
Думаю, что это необходимо из дидактических соображений, ведь в онтогенезе мышления мы, по сути, имеем несколько разных мышлений (хотя все формы мышления, надо полагать, сохраняются в нас и при возникновении более сложных форм, но они просто неочевидны, скрыты от нас).
• Когда мы говорим о «внутреннем психическом пространстве» (в узком смысле этого термина), мы говорим о мышлении, которое, даже при наличии усвоенных ребенком знаков (слов), происходит на уровне состояний, актуальных для него «здесь и сейчас» – они наплывают на него, овладевают им и решают.
• Когда мы говорим о мышлении в рамках «плоскости мышления», это мышление в каком-то смысле разорванное (или, точнее, еще не сшитое): связи между знаками (словами, представлениями) и значениями (состояниями, означаемыми) устанавливаются, но они условны, подвижны.
Знаки работают, скорее, как метки, но не как крючки, способные ухватить те или иные состояния и удерживать их [23] Наверное, их еще можно уподобить здесь некой палке-рогатине, которую ребенок может использовать, чтобы как-то расталкивать свои состояния (значения), подталкивать их друг к другу, но не связывать одно с другим для формирования новых, более сложных интеллектуальных объектов. Например, знаменитый «зефировый текст», который как раз свидетельствует о задатках мышления, диагностирует именно эту способность ребенка – лишь удерживать состояние (желание немедленно съесть зефир) такой понятийной палкой-рогатиной (сознательная установка на выжидание в целях получения большего приза).
. То есть знаки дают здесь ребенку возможность не столько управлять собственными состояниями (превращая их в некие более сложные комплексы отношений, ощущений и переживаний), сколько просто отслеживать и фиксировать их.
То мышление, которое здесь демонстрирует ребенок, это что-то вроде «игры в слова», а базовый процесс идет глубже и лишь как-то обозначается в рамках этой «игры». Ребенок при всем желании не может рассказать, что с ним происходит на самом деле, что он и в самом деле думает, хотя говорит он бойко и внятно.
То есть используемые им знаки вроде бы и связаны со значениями, но эта связь пока нефункциональна. Впрочем, данный уровень развития мышления достаточен для того, чтобы ребенок мог эффективно усваивать те или иные социальные правила, модели отношений, создавать сложные интеллектуальные объекты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
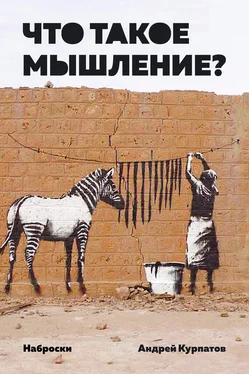






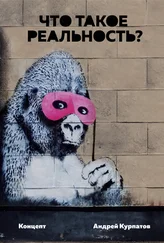

![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)


