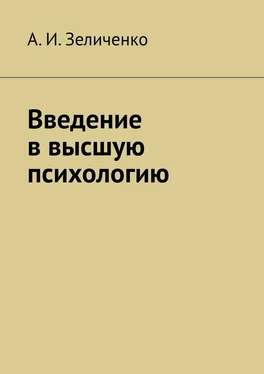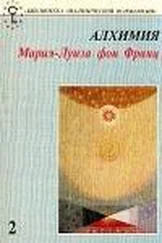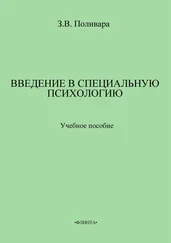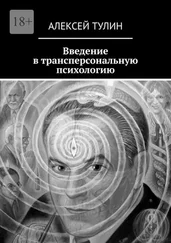А.1.«Корреляционная психология»
Здесь главная проблема в том, что сами свойства, связи между которыми мы разыскиваем, являются нашимиментальными конструктами, нашими способами видеть психику и в этом смысле характеризуют исследователя-психолога не меньше, чем объект его исследования. В результате оказывается, что мы не можем сколько-нибудь точно измерить вводимые нами свойства, потому что они по природе своей плохо измеряемы: в лучшем случае размыты, но нередко и внутренне противоречивы. Скажем, то, что с одной стороны кажется умным, с другой оказывается глупым, сила при взгляде с другой стороны оказывается слабостью, и так далее.
Как следствие, большинство обнаруживаемых нами корреляций едва переваливают за уровень статистической значимости. Другими словами, мы устанавливаем не столько сами связи, сколько факты, что нельзя утверждать их отсутствие.
Все дело в том, что, пытаясь упростить картину психического, мы определяем свойства как конгломераты самых разных психических явлений (эмпирических индикаторов), не сильно задумываясь о том, насколько в них проявляются одни и те же психические, ну скажем так, причины. В результате психология становится коллекцией слабых корреляционных связей.
Никакое знание не бывает лишним, но ощущения понимания психики знакомство с этой коллекцией не создает. Наше знание имеет форму «Похоже, что происходит примерно что-то такое, похожее на что-то вроде…". Образно говоря мы видим не психические физиономии, а какие-то силуэты в воздушных балахонах – призраки души.
Что придет на смену корреляционной психологии свойств? Прежде всего – иные языки описания психического. Языки, которые в отличие от одних прилагательных психологии свойств, будут включать в себя и существительные – описания психических вещей, состояний, событий и факторов, влияющих на события в психике. Но главное, эти языки будут глагольными – будут пригодны для описания процессов и, в частности, действий. И тем самым откроют нам возможность изучать психодинамику: что, под действием чего и как происходит в психике, что и как меняется.
Результатом такого сдвига исследовательской парадигмы станет совсем другая психология – психология с другими вопросами и, естественно, с другими ответами.
А.2 Психофизиология и нейропсихология
Здесь мы остаемся в плену старого убеждения, что психика – просто ощущение нами того, что происходит у нас в мозге. Хотим понять психику – нужно изучать мозг. Идея 19-го века, перекочевавшая в 21-й.
Идея эта правильна. Но только наполовину.
Потому что, с одной стороны, события в мозге и во всем организме сами отражают происходящее в психике. Но не это главное. Это-то мы еще как-то понимаем. Не понимаем сегодня совсем мы другое.
Мы не понимаем, что существуют психические реалии, которые нельзя осознавать, оставаясь в наших обычных состояниях сознания, а можно – только расширенным сознанием. На языке теории информации это значит, что сознание должно стать достаточно емким, вырваться за пределы магического числа 7 плюс-минус 2 и обрести способность вмещать более сложные объекты. Эти обычно неосознаваемые нами реалии формируют «область» психики, который можно назвать сверхсознанием.
Происходящее в психике определяется в первую очередь сверхсознанием. Отсюда идет главная, сущностная мотивация, формирующая жизнь индивида.
На языке физики это означает, что нам предстоит открыть надпсихические, но при этом вполне материальные реалии, которые управляют нейрофизиологической активностью мозга. Уже сегодня мы понимаем, что чтение смешной книги меняет состояние мозга, «заставляет» мозг смеяться. Но дело в том, что таких вещей, заставляющих мозг делать то-то и то-то, гораздо больше, чем мы можем себе представить сегодня. Миллионы тонких и до поры никак не осознаваемых нами воздействий бомбардируют мозг, заставляя его работать так, как он работает.
Знакомство с областью за-психического, над-психического полностью изменит наше понимание не только психики, но и мира в целом, включая, естественно, и понимание своего места в мире и своих задач. Сегодня мы хотим управлять миром, подчинять мир своей воле. Завтра же мы научимся анализировать состав и происхождение своей воли и начнем понимать, в какой степени моя воля моя, а в какой не только моя. А поняв это, поймем и когда надо подчинять мир своей воле, а когда свою волю – миру.
Читать дальше