Надо полагать, все интеллектуальные объекты, сопряженные с «пространством мышления», имеют в себе эту, скажем условно, – «социальную координату». По большому счету нет ни одного слова, которое бы мы выдумали сами (как нет и не может быть «приватного языка»), да и все значения слов, которые мы используем, возникли в нас в процессе социальных отношений – нас обучали словоупотреблению, взаимообусловленности понятий и т. д. и т. п.
То есть все, что мы содержим в себе как интеллектуальные объекты пространства нашего мышления, в каком-то смысле «социально», а механика работы этих объектов (обеспечивающие ее нейрофизиологические механизмы) должна быть такой же, как и та, что обуславливает функционирование «специальных объектов» (то есть интеллектуальных объектов, которые и являются для нас, по сути, «другими людьми»).
Однако если «другие люди» поставили нас в положение, когда мы были вынуждены признать за ними их «свободу воли» (скрытые от нас и лишь гипотетически нами предполагаемые их – «других людей» – внутренние мотивации), вследствие чего они стали существовать в нас на некоем привилегированном положении (тех самых «специальных объектов»), то с другими интеллектуальными объектами это, по крайней мере, самой собой произойти не может. Таким образом, озадаченность в рамках социальных отношений, включая освоение нами тех или иных знаний под руководством (и соответственно, с сопротивлением нам) «других людей», является вполне естественным феноменом, но этого никак нельзя сказать о мыслительной деятельности, не связанной напрямую с «другими людьми».
Могу ли я, по собственному разумению, придумать какого-нибудь «бога» и начать верить в него? Вполне, ведь даже история традиционных церквей пестрит переписыванием официальных «биографий» бога (божеств), не говоря уже о бесчисленности интерпретаций поведения божества, его поступков и того, наконец, что оно от нас ждет. Очевидно, что и само понятие божества, и разные другие вещи, с этим связанные, я не выдумал, а позаимствовал из мира интеллектуальной функции, хотя, конечно, какое-то конкретное «божество» по этому лекалу я могу придумать себе и самостоятельно.
Так, например, я могу начать как-то увязывать разные события своей жизни друг с другом, объясняя их воздействием данной потусторонней силы, находить «знаки» и прочие свидетельства ее контакта со мной, а затем уже превращу это в некое более-менее конкретное представление о ней. В результате подобной интеллектуальной работы я могу создать, вероятно, очень сложный интеллектуальный объект (Сократ, как известно, был казнен, в частности, за то, что верил в собственного «демона», подрывая тем самым авторитет «официальных» афинских богов).
Но можем ли мы назвать создание подобного интеллектуального объекта мышлением? Полагаю, что нет, потому реальность не может нам в таком случае сопротивляться. Наши мысли будут свободно течь по бескрайним просторам неких мыслеобразов и складываться, как им вздумается, производя на свет интеллектуальный продукт, никак с действительной реальностью не связанный. Могу ли я сам в таком случае обнаружить какие-то действительные противоречия в этих своих умопостроениях? Боюсь, что нет. И только опять-таки «другие люди» могут заставить меня испытать сомнения, указав, например, на очевидные совпадения, которые я принял за «знаки» моего выдуманного бога, или на другие противоречия моей конструкции, которые я проигнорировал.
Иными словами, мы обнаруживаем очевидную проблему: находясь в мире интеллектуальной функции, я не могу встретить сопротивление реальности, а соответственно, и мышление (если речь не идет о «других людях», непосредственно сталкивающих меня с действительностью) вроде как невозможно. С другой стороны, такое мышление, судя по всему, все-таки существует: реконструкции реальности, сделанные Максом Планком, Альбертом Эйнштейном, Нильсом Бором, Вернером Гейзенбергом, Эрвином Шрёдингером и др., выведенные, вроде бы, на бумаге и являющиеся, по сути, лишь умостроениями, достоверность которых невозможно проверить изнутри мира интеллектуальной функции, были удивительным образом точно подтверждены данными объективных наблюдений. Каким же образом это оказывается возможным?
Математики решают проблему посредством строгой аксиоматики, устанавливая базовые правила взаимодействия интеллектуальных объектов и дальше строго следуя этим – пусть и искусственным, но жестко соблюдаемым – правилам. Но если речь идет о реконструкции фактической реальности (математики все-таки реализуют свой подход, не покидая реальности мира интеллектуальной функции)? Если мы думаем, например, об эволюции, химических элементах, биологии или даже самой физике, подобная аксиоматика невозможна. Здесь все равно приходится соотноситься с действительностью, которая, как мы понимаем, представлена в нашем мире интеллектуальной функции интеллектуальными объектами, которые сами по себе не могут транслировать нам сопротивление реальности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
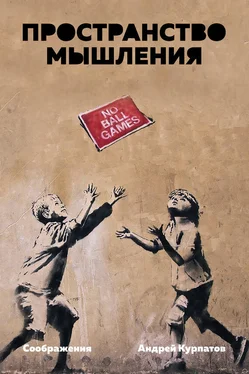







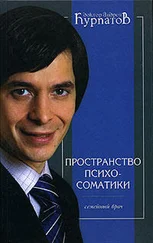
![Андрей Курпатов - Мышление. Системное исследование [litres]](/books/412415/andrej-kurpatov-myshlenie-sistemnoe-issledovanie-thumb.webp)


