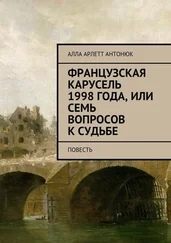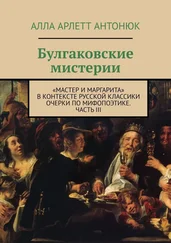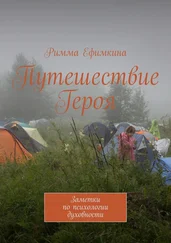…Двух молодых венчал перед налоем.
Черт прибежал амуров с целым роем,
И вдруг дьячок на крылосе всхрапел,
Поп замолчал – на девицу глядел,
А девица на дьякона глядела.
У жениха кровь сильно закипела,
А бес всех их к себе же в ад повел.
«Монах» (1813)
В интерпретации древнего мифа физическая любовь в образе Эроса (или Эрота) – это собственно всегда есть та же смерть, только под видом обольщения. И Эрос как дух смерти служит черту среди других «амуров с целым роем». И в других сценах с инфернальной окрашенностью мы не раз ещё встретимся у Пушкина с такой своеобразной метафорой смерти-невесты . 5 5 Христу приписывают слова о том, что в ожидании вечности всякий должен бодрствовать и держать свою лампаду зажжённой, как для свадебной процессии, так как хотя царство Бога и сильнее царства Сатаны, последнее будет существовать вплоть до его, спасителя, пришествия. Дату же пришествия знает только сам Отец, который никому не открывал эту тайну: ни Сыну, ни ангелам. (Матфей, XXIV, 36; Марк, VIII, 32). Царство Божие будет для всех такой же неожиданностью, какой для Лота и Ноя стали поразившие их катастрофы.
Откуда же первоначально могли возникнуть у Пушкина эти видения шествий по ноуменальному миру, какое предстает перед нами, например, в «Бесах»? Из каких источников конкретно черпал он мотивы для создания своего поэтического сюжета о таинственной встрече «запоздалого путника» с видениями других миров как матрице рисуемой им картины мира?
Безусловно, отголоски свадебного шествия Богдановича в «Душеньке», имеющего массу архетипических признаков, получили свою интерпретацию и у Пушкина. Эта архетипическая тема нашла у него своё отражение даже в «Евгении Онегине», где во вставном эпизоде песни девушек, собирающих ягоды в саду Ларинской усадьбы, мы также можем встретить описание некоего архаичного обряда, своими определенными признаками схожего ещё и с древним обрядом майского праздника.
Широко известна связь древнего майского праздника с цветением и плодородием, а также с приурочением его к посеву и жатве. У Богдановича в эпизоде шествия мы встречаем, например, упоминание о забрасывании невесты цветами:
Иные по пути сорили
Пред нею ветви и цветы,
Другие тут же гимны пели,
Прилично славя красоты.
Богданович И. Ф. «Душенька» (1778)
У Пушкина Татьяна слышит исполнение обрядовой песни в тот самый момент, когда она – здесь же в саду – в священном страхе и трепете ожидает встречи с Онегиным (в конечном итоге, «Мечтая с ним когда-нибудь //Свершить смиренный жизни путь!» (гл. 8):
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
«Евгений Онегин» (3:XXXIX)
В майском обряде, равно как в обряде свадебном и похоронном, майского царя и царицу (жениха и невесту) подружки невесты венчали, возлагая венок, или закидывали ветвями и цветами. У Пушкина в исполняемой девушками песне можно слышать, собственно, игровую хороводную, обычно сопровождавшую свадебные игры, в которых девушки призывали закидать «заманенного молодца» «вишеньем» – цветами вишни.
Венок (венец), его возложение (или же эквивалент этого действа – забрасывание, закидывание цветами) устойчиво прослеживался и существует ещё до сих пор не только в свадебной, но и в похоронной обрядности.
Более того, как указывает О. М. Фрейденберг, в майских обрядах, всегда прослеживается метафоричность «пола» и «поля» – как омонимичность влечения полов (страсти) и созревания плодов (« страсти плодов», по определению Плутарха). Эту же метафорику мы можем проследить и у Пушкина, когда он рисует «страсти» Татьяны: «…она мечтой //Стремится к жизни полевой,// К своим цветам, … //И в сумрак липовых аллей, //Туда, где он являлся ей» (7:LIII). Ср. также: «Закидаем вишеньем, //Вишеньем, малиною, //Красною смородиной» («Евгений Онегин»; 3:XXXIX).
Эту же метафору страстей на «жизненных браздах» («пола» и «поля», «жизни» и «жатвы») мы встречаем у Пушкина и в главе Второй «Евгения Онегина»:
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья
По тайной воле провиденья
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут… (2: XXXVIII)
Не только в древних майских обрядах, но и в христианских мифах крестная жизнь и смерть архаичного божества метафорично представлена «страстью дерев и плодов» (созревание и жатва). Вспомним библейское яблоко – плод, который вкушает Ева, и библейскую сцену, происходящую под этим древом. Упоминание об этой сцене мы найдем и у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
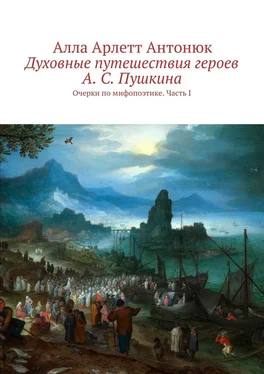
![Инна Давидович - Пионеры-герои [Рассказы и очерки]](/books/25291/inna-davidovich-pionery-geroi-rasskazy-i-ocherki-thumb.webp)