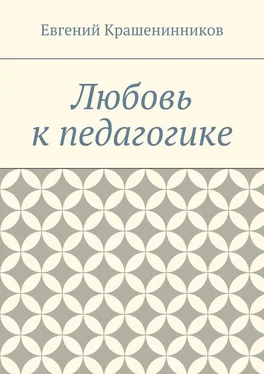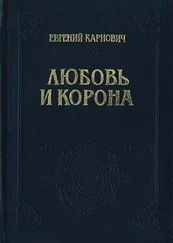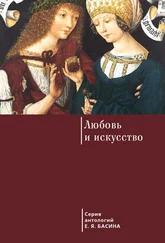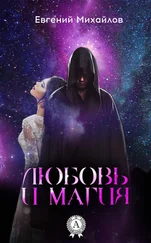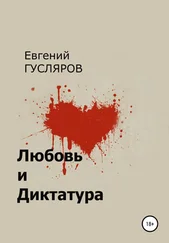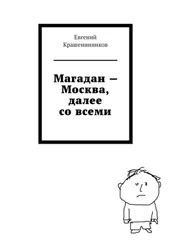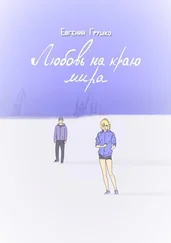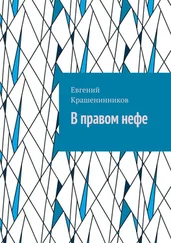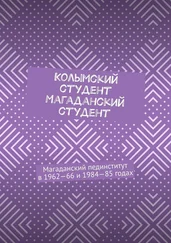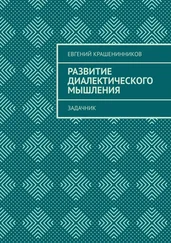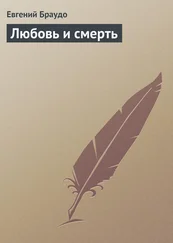Обед начался в два. Но пленум закончился в час сорок. Три часа сорок минут зал бурлил, спорил, доказывал, взмыленные эксперты крутились в завихрениях тезисов, вбрасывая изощрённые вопросы… А без двадцати два одна молодая директор школы вдруг вскричала (надо бы, чтобы она вскричала «Эврика!», но чего не было, того не было): «Постойте! Я, кажется, поняла!! Я поняла, чего от нас хотят!! Они хотят, чтобы мы вначале подумали – а потом что-то предлагали!» И зал проникся…
Четыре эксперта, три часа сорок минут, сто человек, один осознавший… Вот тогда я понял, что такое педагогика. Ради этого стоит работать.
В этой книжке собраны статьи последних лет пятнадцати, опубликованные (за небольшими исключениями) в газете «Вести образования» (как в бумажном, так и в электронном варианте) и на сайте «Эврики» в 2000-х и 2010-х годах (и даже материалы второго приложения впервые увидели свет в газете). Одно время я вёл там колонку, в которой, по замыслу редакторов, пробовал представить взгляд на проблемы образования не просто психолога, но и католика (параллельно тексты писали православный священник и с исламской стороны мудрый Ханафи Гулиев). Несколько раз я писал комментарии к образовательным новостям за неделю; иногда отклики на конкретные события педагогической жизни. Какие-то темы постоянно проходят через эти тексты; я думаю, читатель обратит внимание, что самым популярным словом в книжке будет аббревиатура из трёх букв, на осмысленную расшифровку которой я потратил (приобрёл!) более десяти лет своей бодрости.
Ну что ж:
За педагогику!!
Магадан-Москва
1984—2016
В нашей культуре существует интересное явление. Вернее, оно не столько интересно само по себе, сколько является неким индикатором другой, более существенной особенности. Это явление – боязнь по отношению к иностранным словам, время от времени переходящая в активную борьбу с ними. На разном уровне: от заседаний Государственной Думы и Правительства Российской Федерации до кухонь и подворотен – всплывает тема ограничения употребления иностранной лексики. Мол, зачем говорить, например, «либеральный», когда можно «свободный», вместо «толерантный» – терпимый, а вместо «парламента» – та же «дума» и т. д.
В таком подходе, в принципе, нет ничего дурного (равно как нет и ничего особо продуктивного), хотя и несколько странно это стремление ограничить выразительные средства языка. Но нас интересует сейчас немного другое. Появление в языке иностранного слова существенно тем, что оно фиксирует новое явление, новый факт, новый объект. Встречая иностранное слово, вдруг попавшее в орбиту нашего языка, мы понимаем, что столкнулись с чем-то, чего раньше не было. Нам предстоит обнаружить теперь этот объект в своём окружении или понять какую-то ранее неизвестную нам черту в том явлении, про которое, казалось бы, всё уже давно известно.
Так появление калькулятора можно было воспринимать как усовершенствованные счёты и найти любую русскоязычную замену, пусть даже и более длинную, например, «быстросчёты» или «электросчёты». Но при этом теряется эффект новизны. Низводя новое явление до уровня привычного, мы тем самым как бы приближаем его к своему прошлому опыту и подчёркиваем его похожесть на прежнее, а не ту новизну, которую оно несёт. Хотя даже язык этому сопротивляется, например, путём создания аббревиатур, которые при всей их возможной корявости всё-таки являются новыми словами. ЭВМ – это новое слово, означающее новое для своего времени явление.
Можно видеть мир как устоявшийся и одинаковый, а можно как меняющийся и становящийся. Но это не просто разные идеологии или философские позиции. Любая из них может быть продуктивной, если она адекватна существующей ситуации. Разумеется, новизна ради новизны не может являться абсолютной ценностью. «Если новое ничем не отличается от старого, то я выбираю старое». В новом же, возникающем как ответ на запрос, как попытка решения задачи, как порождение проблемной ситуации, эта новизна является не мёртворождённой, а существенной и принципиальной.
Структура любой проблемы является двоякой. С одной стороны, есть некоторая ценность, осуществления которой необходимо добиться (неважно, что это: полёт в космос, улучшение экономической ситуации или развитие мышления ребёнка). Эти ценности могут быть разными у разных людей, групп или культур, но держатели ценностей по каким-либо основаниям уверены, что необходимо добиться её реализации. С другой стороны, если до сих пор эта ценность не была осуществлена, значит, у нас не было средств и способов её достижения (при условии нашей интеллектуальной сохранности). И, следовательно, мы должны создать нечто новое, чтобы проблему решить. То есть новизна является не просто красивой добавкой к имеющемуся, а принципиальной, существенной, структурной чертой процесса разрешения реальной проблемы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу