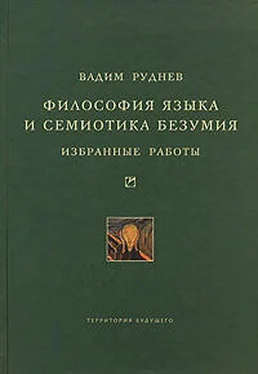Итак, в противоположность депрессии и шизофрении истерия и обсессия располагает как смыслом, так и денотатом, то есть истерики и ананкасты достаточно свободно могут перемещаться в среде вещей и событий. Но они относятся к вещам и событиям принципиально по-разному. В целом можно сказать, вспоминая Лакана, что у невротиков означающее преобладает над означаемым, то есть смысла в речи обоих типов невротиков всегда больше, чем денотата. Но что это за смыслы? Истерик существует в среде осуществленных и неосуществленных (неосуществимых) желаний, обсессивно-компульсивный существует в среде выполненных и не выполненных предписаний. То есть речь истериков и ананкастов организуют принципиально разные, даже, можно сказать, противоположные модальности. «Я хочу это» или «Я не хочу этого» – вот типичное высказывание истерика. «Я должен сделать это» и «Я не должен делать этого» – вот типичное высказывание ананкаста. В чем различие семиотики желания (или в более общем смысле, ценности) и семиотики нормы, деонтики? И та и другая направлены на объект, управляются мнением Другого. Но если истерик все время недостижимо желает этого Другого, то ананкст все время подчиняется этому Другому. В обоих случаях сфера смысла превалирует над сферой денотата, но по-разному. Истерики, как известно, склонны к вранью. Вот здесь и происходит подмена денотатов и раздувание смыслов – огромный арбуз в монологе Хлестакова. Этот арбуз чисто фантазматический, но не иллюзорно-шизофренический, не галлюцинаторный. Возможно, Хлестаков действительно видел где-то такой арбуз, а потом экстраполировал его на себя. Таким образом, в семантике истерика господствует преувеличение, что исходит из психодинамического уринального соперничества – кто дальше помочится. Ананкаст, наоборот, склонен все преуменьшать. Ему надо сделать выбор, выполнять норму или не нарушать запрет. Или вообще ничего не делать. И он выбирает вообще ничего не делать, ибо так спокойнее, так, ничего не делая, меньше риска нарушить норму. Так, ананкаст Акакий Акакиевич Башмачкин в гоголевской «Шинели», который всю жизнь переписывал бумаги, когда ему предложили должность повыше, сказал, что он будет лучше, как и прежде, переписывать.
Противоположными являются у истериков и ананкаств механизмы защиты, соответственно, вытеснение и изоляция. Механизмы защиты – суть семиотические образования. При вытеснении просто нечто семиотическое забывается, а потом вылезает как иконический псевдосоматический знак: например, вытесняется полученная когда-то пощечина и вылезает невралгия тройничного нерва (пример Абрахама Брилла). При изоляции человек говорит то, чего не чувствует. Ананкаст вообще плохо выражает и чувствует аффекты. Так он, по сути, находится вне любовного дискурса, боится секса и открыто выражает к нему презрение и ненависть, так как секс связывается у него с чем-то грязным, анальным. Истерик очень сильно привязан к сексу, он помешан на сексе, но в последний момент увиливает, ему важно просто продемонстрировать свои телесные иконические знаки, соблазнить, а потом в последний момент уйти на попятный. Таким образом, вот еще одно различие между знаковостью истерической и знаковостью обсессивной. Истерический знак – это иконический знак. Он расположен на теле истерика, и его надо уметь читать – это знак недостижимого желания. Обсессивно-компульсный знак – это индексальный знак – метонимия, он носит, как правило, запретительный, во всяком случае, всегда нормативный характер, как система уличной сигнализации. «Кирпич» – «ехать нельзя» – вот наиболее типичный знак-индекс ананкаста.
Итак, при шизофрении больной регрессирует к той стадии развития, когда язык еще не сформировался – и он соответственно теряет его либо почти полностью, либо остаются какие-то бредовые безденотативные остатки, как во сне. При депрессии больной регрессирует к той стадии своего развития, когда язык уже сформировался, но из-за работы скорби утрачивается сфера смыслов и полученная после шизоидной позиции сфера денотатов становится временно ему не нужна – депрессивный склонен вообще не пользоваться языком, хотя потенциально это уже возможно. При неврозах переноса мы имеем уже хорошо сформированный язык, и здесь мы можем говорить лишь о некоторых искажениях, о преобладания сферы смысла над сферой денотата, то есть невротикам переноса важнее не то, о чем они говорят, а как они об этом говорят.
Но до сих пор мы исходили из предпосылки, что язык создан и функционирует для того, чтобы адекватно передавать информацию между субъектом и объектом. Но язык это скорее игра, где есть победитель и побежденный. Языковая игра во многом похожа на игру в теннис. Говорящий старается своей речью-ударом сделать так, чтобы партнер не смог ему ответить тем же, чтобы мяч ударился об землю на территории игрока-противника. Говорение – это состязание двух или более языковых субъектов. И это касается практически всех языковых игр. Когда общение становится полностью понятным, когда утрачивается агональная функция обмена репликами, говорить становится неинтересно – это депрессивная языковая позиция. Когда двое людей говорят, напротив, на языках, которые им совершенно непонятны, то им тоже становится неинтересно – это шизофреническая позиция; тогда они начинают находить общий язык, построенный на других, более универсальных основаниях. Например, язык жестов. Витгенштейн писал в «Трактате»: «Речь маскирует мысль. И так, что по внешней форме этой маскировки нельзя заключить о форме замаскированной мысли; поскольку внешняя форма маскировки вовсе не имеет целью выявить форму тела». Человек говорит. Но зачем он говорит? Можно заключить, что человек говорит не для того, чтобы передать адекватную информацию о мире, это был бы слишком тривиальный и никому не нужный язык. Человек говорит, прежде всего, чтобы удовлетворить свое желание, чтобы прорваться к Другому. Даже в самом коротком и примитивном обмене репликами мы можем усмотреть это невысказанное, но подразумеваемое желание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу