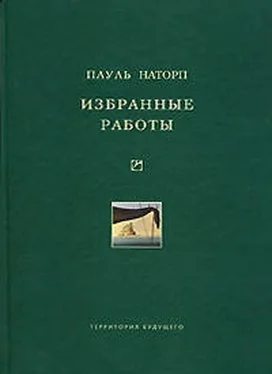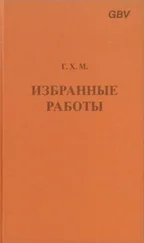Говорят о «мире ценностей». Если это есть только другое выражение долженствования, то пусть нам покажут обоснование этого долженствования, и если могут – пусть докажут нам, что его следует искать где-нибудь в другом месте, нежели там, где ищем его мы вместе с Кантом и Платоном: в сведении всех условных положений разума к последнему безусловному положению и основанном впервые на нем единстве сознания, в котором сохраняется (согласно Спинозе) его истинное «бытие», и не только сохраняется (это ложная точка зрения только теоретической философии), а все более возвышается и объединяется. Это могло бы быть названо ценностью жизни, но ценностью такой жизни, понятие которой впервые возникает с утверждением разумом безусловного вообще, а не заложено в нем уже заранее. «Мир ценностей» в таком виде нам еще не изображали, и мы боимся, чтобы, пользуясь этим словом, нам не преградили снова путь в бесконечное, на который ставит нас этика безусловных законов, и не захотели бы снова спасти нас, приведя в какой-нибудь безопасный порт из безбрежного океана бесконечных задач, которому мы рискнули отдаться. Мы же не желаем спасаться: navigare necesse est [42]! Этика бесконечных задач оставляет нас в самом центре рискованного становления; она запрещает нам также стремиться только сохранить наше «бытие» и ожидает от нас неустанного движения вперед, безостановочного возвышения нашей самости. Этим впервые обосновывается настоящая чистая воля и с этики снимается всякая тень натурализма. Правда, и естествознание является бесконечной задачей, но только в «отрицательном смысле», потому что, будучи направлено на определенное во времени бытие, оно желает достигнуть завершения и, однако, по самой своей природе неспособно к завершению. Завершение было бы достигнуто естествознанием, если бы закон природы мог иметь абсолютную значимость, как, например, в лапласовской фикции разума, который из своей формулы умеет вычислить всякое мировое событие в бесконечность прошлого и будущего или в абсолютистически понимаемом сохранении мировой энергии в неизменном количестве; такое количество, как сохраняющееся, разумеется, должно мыслиться конечным, а потому оно было бы достаточным тоже только для конечного, всегда повторяющегося в пустом круговороте потока событий. Не таково бесконечное усилие воли; оно не знает никакой подобной ограниченности и поэтому, очевидно, не «детерминировано», не заключено в определенные, неподвижные границы, хотя, без сомнения, всякое осуществление хотения остается подчиненным закону природы, потому что действительность есть категория, предпосыл (ύπόϑεσις) «возможного опыта». В таком смысле мы постоянно высоко ценили учение Канта о свободе и, исходя от него, по крайней мере заложили философское основание для учений о хозяйстве, о праве, о культуре, а также истории и естествознании; мы охотно признаем, что с этой стороны бо́льшую часть нам еще предстоит выполнить [43].
Итак, если нам в качестве важного нового требования предъявляют требование дать «философию культуры», то мы можем только ответить: мы имеем философию Канта и впервые имеем настоящую философию трансцендентальной методики, которую мы, исходя от Канта и стараясь только провести строже и последовательнее, с самого начала понимали и характеризовали как философию культуры. Но мы полагаем, что эта философия культуры нисколько не находится в противоречии ни с философией природы, ни хотя бы с естествознанием. Природа как объект философии, именно природа естествознания, сама если имеет для нас какую-либо значимость, то именно как существенное основание человеческой культуры. Мы далеки от того, чтобы считать последнюю проблемой естествознания, что мы […] с точки зрения философии естествознания; наоборот, естествознание мы подчиняем точке зрения философии в качестве, во всяком случае, существенного фактора человеческой культуры.
Как философия культуры трансцендентальный идеализм становится для нас жизненною силою. И в этом направлении мы стремимся углубить Канта посредством Платона, который вполне постиг, что философия не является роскошью ученого кабинета или утонченной образованности, а необходимым средством действительно ценной жизни, которая, будучи лишена единства цели, поистине перестала бы быть жизнью. Трудно оспаривать, что мы, таким образом, остались столь же верными духу Канта, как и Платона. Как для наших предшественников – Шиллера, Вильгельма Гумбольдта и других – кантианство являлось не только делом головы, но и сердца, делом целой жизни, таким же оно осталось и для нас. И мы не заблуждаемся, что именно наше время ни в чем не нуждается так сильно, как в философском проникновении жизни, а потому и сама философия должна проникнуться теплой жизненной кровью культурного развития, стремящегося к высшему победному венку. Биение такой жизни мы ощущаем в мраморно-холодных на вид образованиях мысли великого критика разума. А так как в нем бьется эта жизненная энергия, то он будет жить, пока хоть одно человеческое сердце и человеческий мозг работают на этой планете. Сказано: посеянное не оживет, если не умрет; такого «умри и восстань» не должна отстранять от себя и живая сила человеческой жизни. Поэтому мы не боимся похоронить тело этой философии, лишь бы жил ее дух. Именно таким образом мы надеемся быть и остаться настоящими потомками Канта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу