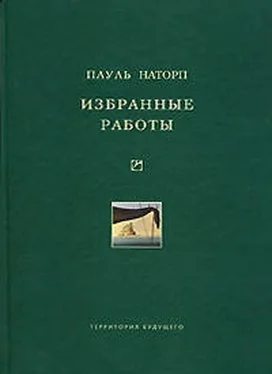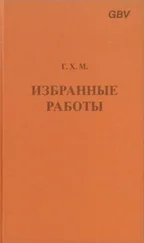А что же все-таки может быть общим всем, общим всем по существу? Только одно: нравственный элемент в религиозном. Но я имею в виду опять-таки не этическую догму только: тут марксисты опять правы, утверждая, что и особые элементы нравственных воззрений и требований тоже зависят от времени, обстоятельств и общественных интересов и способны меняться вместе с ними, как религиозные представления. А есть все-таки последнее единое основание нравственного, которое всегда признается на деле даже у тех, кто спорит против него на словах. Никто серьезно не считает за нечто в себе доброе внешнюю и внутреннюю лживость или трусость и недостатки иного рода – косность, расточение жизненных сил, насилие или обман, а каждый при серьезном размышлении признает их с полной уверенностью несостоятельными, потому что они подрывают всякую возможность сообщества, а вместе с тем и человеческого существования, подобно тому, как из того, что известное строение не может быть внутренно устойчивым, можно узнать, что в нем не выполнены известные основные механические условия. Прежде всего сама цель – возможность и действительность человеческого сообщества вообще – в конечном счете никому не внушает сомнения. Это единство цели человечества есть ядро нравственного, о нем идет речь. А она действительно одна и та же во всем человечестве и содержится во всякой более благородной религии в качестве основного момента ее. Это пункт единства, в котором действительно встречаются все более благородные религии. «Бог это любовь» – что выражает это, как не требование, чтобы было сообщество? Таким образом, пусть религия будет всем, чем она хочет и может быть, мы не противимся этому; но, во всяком случае, она есть также выражение, в последнем основании даже единодушное выражение, этого именно необходимо единодушного стремления к единству воли в самом человеке, а в конце концов и в человечестве. Можно спорить против того, что религия только дело человечества, но никто серьезно не отрицает или не может отрицать, – будет ли это католик или протестант, христианин, еврей или буддист, или кто-либо иной, – что религия вместе с тем дело человечества, что она вместе с тем стремится представлять и всегда представляла идею человечества и притом как единства, как сообщества, говоря простым языком, человеческую любовь или, скажем еще проще, человечность по отношению друг к другу. Пусть другая сторона говорит: для этого нам не надо Бога, это делает само человечество; мы ответим на это: да, человечество, но этот элемент – идея, невидимое, в чем тем не менее мы уверены в своей душе и что подтверждается в глубине нашей внутренней жизни, хотя мы и должны признаться, что то человечество, которое мы знаем по опыту, не выражает этой идеи, а во многих мы не замечаем даже желания к этому. Таким образом, правыми оказываются все-таки те, кто говорит: надо иметь право верить, быть в состоянии верить в то, чего не видишь, и эта вера в невидимое и есть религия.
И здесь я должен еще раз и уже в последний раз сослаться на Песталоцци, чтобы завершить его образ и с этой стороны. Почти ни у кого это чисто человеческое направление религии не высказано так поразительно ясно, так народно наглядно и в то же время непосредственно практически, как у Песталоцци. Из массы прелестных выражений я выберу только два, оба из его романа. В прекрасной главе «Eine Kinderlehr» (в третьей части «Лингарда и Гертруды») говорится: «Бог для людей только через людей Бог людей. Человек знает Бога только, поскольку он знает людей, т. е. знает самого себя, и он почитает Бога только в той мере, в какой он почитает самого себя и в какой он к своим ближним относится, руководясь самыми чистыми и самыми лучшими влечениями, заложенными в нем. Поэтому-то один человек должен подымать другого к религиозному учению не образами и словами, а своим делом. Ибо напрасно ты будешь говорить бедному, что Бог есть, и сиротке, что у него есть Отец Небесный: ни один человек не научит другого познать Бога образами и словами. Но если ты поможешь бедному, чтобы он мог жить как человек, то ты покажешь ему Бога, и если ты воспитаешь сироту, как будто бы у него был отец, то ты научишь его познать Отца Небесного, который указал твоему сердцу на то, что ты должен воспитать его». Этот завет проводится далее на прекрасном непосредственном примере из самой жизни. Таким образом, устами чистосердечного Марейли Песталоцци высказывает прекрасный символ веры: «Ошибка уже сделана, если кто-нибудь в вопросе о том, что хочет или не хочет сказать слово Божие, полагается на объяснения и на то, что об этом говорят другие люди… Добрые люди, вам, должно быть, хорошо известно, что на свете довольно вещей, которые исходят от самого Бога и в которых не может быть сомнения относительно того, какой жизни и дела на свете требует Бог от каждого человека. У меня есть солнце, луна, звезды и цветы в саду, плоды в поле, а затем мое собственное сердце и члены моей семьи. Разве все это не говорит мне больше, чем все люди, о том, каков смысл слова Божия и чего он хочет от меня? Вот вы сами, которые стоите передо мной и я смотрю вам в глаза, – возьмите вы то, чего вы хотите от меня и что я вам должен. А затем вот дети моего брата, о которых я должен позаботиться; разве они не своеобразное слово Божие, обращенное известным образом ко мне и предназначенное именно для меня, а не для кого-либо другого? И все это несомненно от Бога, и я, конечно, не могу ошибиться, стремясь объяснить себе слово Божие ничем иным в мире, как только этим путем». Почти слово в слово сходится с этим то, что Фауст отвечает Гретхен: «Wölbt sich der Himmel nicht da droben… schau ich nicht Auge in Auge dir…» (Разве над нами не расстилается куполом небо… разве мои очи не смотрят в твои…) Таким образом, и тут мы видим Песталоцци и Гете вполне на одной линии, но у Песталоцци опять есть то преимущество совершенно народного, скромного оборота, в котором тем не менее ничто не пропадает от глубины гетевского созерцания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу