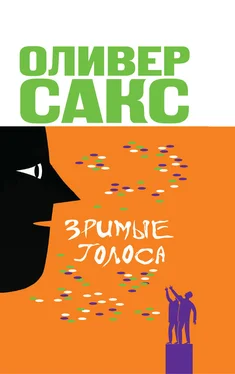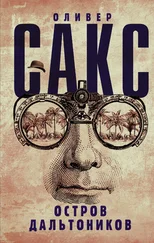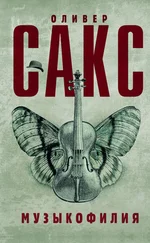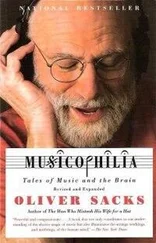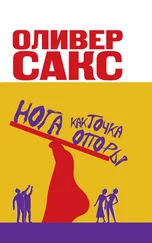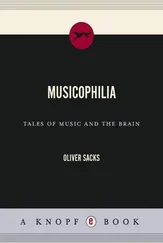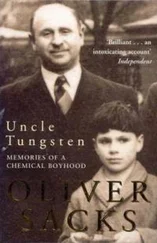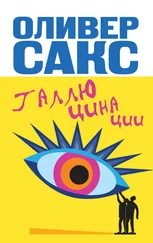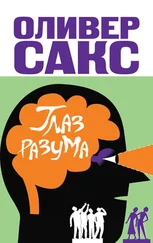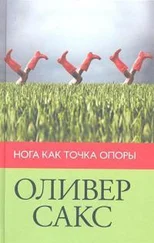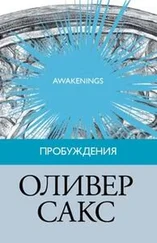В январе 1982 года нью-йоркский суд постановил выплатить два с половиной миллиона долларов «семнадцатилетнему глухому мальчику, которому поставили диагноз «умственная отсталость» в возрасте двух лет и направили в интернат для умственно отсталых детей, где он пробыл до одиннадцатилетнего возраста. В этом возрасте его перевели в другое учреждение, где при рутинном психологическом исследовании было выявлено, что он обладает по меньшей мере нормальным интеллектом». Об этом случае сообщил Джером Шейн ( Шейн , 1984). Видимо, такие случаи происходят отнюдь не редко – почти о таком же ребенке было рассказано в газете «Нью-Йорк таймс» от 11 декабря 1988 года.
Добавление (1990) : Такие ошибки, как ни невероятно это звучит, могут случаться и со взрослыми. Совсем недавно в психиатрическом госпитале, где я работал, я увидел человека, оглохшего в возрасте 37 лет в результате менингита. После болезни он внезапно обнаружил, что перестал слышать и потерял способность понимать, что говорят ему другие. Он обращался к нескольким врачам, ни у одного из которых не нашлось ни времени, ни желания выслушать больного и разобраться в его состоянии. Один из врачей поставил ему диагноз «шизофрения», а другой нашел у больного умственную отсталость. Немного поработав с этим пациентом, я написал ему несколько вопросов, после чего мне стало ясно, что он не страдает ни шизофренией, ни умственной отсталостью, что он не нуждается в психиатрическом лечении, а нуждается в изучении языка жестов.
Когда я собрался писать о нескольких парах близнецов, вычислительных гениях ( Сакс . «Близнецы», 1985), и их выдающихся арифметических способностях, мне было интересно понять, нет ли в их мозге «глубинной арифметики, описанной Гауссом… похожей на врожденный синтаксис Хомского и порождающую грамматику». Когда же я узнал о неожиданном успехе Ильдефонсо в работе с числами, я невольно вспомнил близнецов и подумал, не обладает ли Ильдефонсо врожденной, органической арифметикой, которая проснулась вследствие стимуляции числами.
Действительно, позже Шаллер писала мне о пятидесятичетырехлетнем пациенте с врожденной глухотой, который не владел языком, но зато владел арифметическими действиями. У него был потрепанный учебник арифметики, в котором он не мог читать текст, но зато легко решал примеры. Этот человек, вдвое старше Ильдефонсо, смог на шестом десятке освоить язык жестов. Шаллер задает вопрос: не помогло ли ему в этом владение принципами и символами арифметики?
Вероятно, такая арифметическая компетентность служит моделью или зачатком развития лингвистической компетентности сразу (или долгое время спустя). Одна способность облегчает овладение другой.
Рапен , 1979, с. 210.
Блаженный Августин пишет:
«Когда они (мои родители) называли какой-либо предмет и приближались к нему, я видел это и начинал понимать, что вещь названа тем звуком, какой был произнесен, когда указывали на предмет. Намерение свое они выказывали телесными движениями, как то принято в естественном языке всех людей: игрой глаз, движениями других членов тела и тональностями голоса, каковые выражают состояние нашего ума при поиске, обладании, отказе или избегании. Так, раз за разом слыша слова, употребленные в надлежащих местах в различных предложениях, я постепенно научился понимать, какие предметы они обозначают, а потом начал приучать свои уста формировать эти знаки. Я использовал их уже для выражения моих желаний» («Исповедь», I:8).
Витгенштейн замечает по этому поводу: «Августин описывает усвоение человеческого языка так, как усваивает его ребенок, попавший в чужую страну, так, словно он уже обладает знанием языка, но другого. Или: как усвоение языка ребенком, который уже способен мыслить, но еще не в состоянии говорить. Но «мыслить» – это значит «говорить самому с собой» («Философские исследования»: 32).
Когнитивный аспект данного превербального общения был подробно изучен Джеромом Брюнером и его коллегами (см. Брюнер , 1983). Брюнер видит в превербальных взаимодействиях и «разговорах» архетип всякого вербального общения, зародыш тех словесных диалогов, которые будут иметь место в будущем. Если такие превербальные диалоги выпадают из опыта ребенка или нарушаются, то это, считает Брюнер, может стать значительным препятствием на пути формирования способности к речевому диалогу. Именно это может произойти – и на самом деле происходит, если не принять соответствующих мер предосторожности, – с глухими детьми, которые не могут слышать мать, звуки, которые она произносит с первых дней невербального общения с ребенком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу