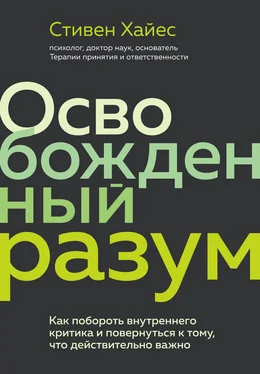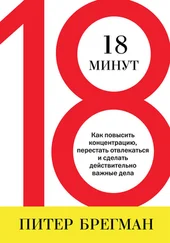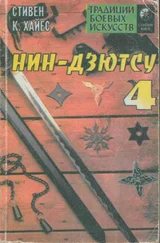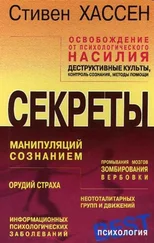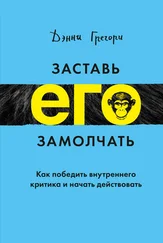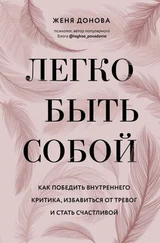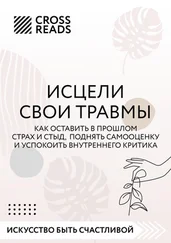Я назвал эту эпоху бихевиоризма первой волной поведенческой и когнитивной терапий. Принципы, выработанные в ходе экспериментов с нечеловекообразными животными, систематически тестировались на клиентах-людях, и был создан ряд мощных методов модификации поведения, которые и по сей день включены в списки доказательных процедур. Что было и есть замечательного в поведенческой психологии, так это ее концентрация на принципах изменений, которые обладают высокой точностью, диапазоном и глубиной. Но бихевиористы того времени не могли адекватно объяснить сложность человеческого мышления и его роль в нашем поведении. Это не означает, что они не принимали анализ человеческих мыслительных процессов и эмоций. Вопреки распространенному мнению, говоря о поведении, они имели в виду все человеческие действия, включая мышление и чувства. Но у них не было хорошей рабочей модели того, как функционирует человеческий разум. Объяснение исследователей, как принципы вроде подкрепления или классического обусловливания могут привести к усложнению мышления, чувств или симпатий, просто не работало достаточно хорошо. Другими словами, у бихевиористов, которых я знал, было сердце, но они не могли объяснить мозги.
Бихевиористы знали, что это проблема, или, по крайней мере, Скиннер знал. В 1957 году он написал книгу под названием «Вербальное поведение», в которой на основе поведенческих принципов попытался объяснить, как мы развиваем язык. Это было блестяще, и сначала я был очарован, но вскоре начал беспокоиться ограниченностью его объяснений. Чувство усилилось после того, как я получил диплом и начал проводить исследования, руководствуясь его идеями. Так, в самом начале академической карьеры я пришел к выводу, что они в значительной степени ошибочны. Скиннер смог объяснить лишь некоторые из самых ранних стадий развития языка, и его представления о человеческом познании постепенно ограничились работой с ранним языковым обучением, особенно с детьми с тяжелыми задержками развития.
Большинство людей списали бихевиоризм отчасти из-за его неспособности объяснить человеческое познание. Но также направление потеряло популярность из-за мнения о том, что Скиннер и другие бихевиористы предпринимают опасные попытки контролировать мышление и поведение. Это было неправдой, но Скиннер непреднамеренно подогрел предположение общества о бихевиористских разработках тоталитарных методов контроля своей книгой «За пределами свободы и достоинства». В ней автор, не просчитав, как будут звучать его слова, пожаловался, что мы не должны позволять цветистым выражениям вроде свободы и достоинства закрывать нам путь к открытиям в области изменения поведения.
В результате репортеры, писавшие об изменении поведения, регулярно говорили о нем в контексте таких терминов, как контроль сознания, промывание мозгов или даже лоботомия , хотя поведенческая терапия никогда не имела ничего общего с подобными практиками. На это было больно смотреть.
Я провел много часов со Скиннером и другими ранними бихевиористами и обнаружил, что они отнюдь не были хладнокровными манипуляторами, – это были теплые, неравнодушные и вдохновляющие люди. Они хотели использовать открытия, полученные в лаборатории, во всевозможных позитивных целях: чтобы уменьшить потребление энергии (что в конечном итоге стало темой моей диссертации), сделать условия на работе более гуманными, помочь родителям воспитывать своих детей или помочь пациентам научиться пользоваться аппаратами для диализа почек в домашних условиях. Но их теория и методы просто не соответствовали широте этого вызова, и культура начала обходить их стороной.
Традиционная когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): вторая волна
Поведенческой терапии не было и десяти лет, когда Аарон Бек, Альберт Эллис и другие возглавили разработку КПТ. В центре внимания этой второй волны бихевиоризма стояла очередная попытка объяснить ту роль, которую мысли играют в управлении поведением. КПТ не отвергала поведенческие методы – она включила в себя практически все более ранние поведенческие практики, такие как постепенная экспозиция источников страха для лечения фобий. Но при этом было добавлено множество практик, направленных на изменение содержания мыслей людей. Как раз эти новые методы стали настоящим сердцем и душой КПТ.
Суть теории заключалась в том, что малоадаптивные мысли приводят к малоадаптивным эмоциям, которые, в свою очередь, приводят к аномальному поведению. Пытаясь изменить малоадаптивные мысли людей, пионеры КПТ спрашивали клиентов, о чем они думают, а затем, основываясь на различных теоретических идеях, оспаривали те мысли, которые, по их мнению, способствуют развитию патологии. Основной метод состоял в том, чтобы заставить пациентов рационально обдумать свои мысли и эмоции, изучить доказательства за и против них, а затем осознанно принять точку зрения, согласованную с данными о ситуации и, следовательно, относительно точную.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу