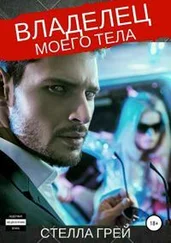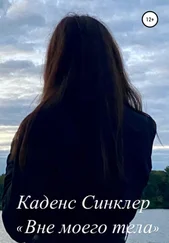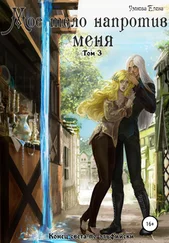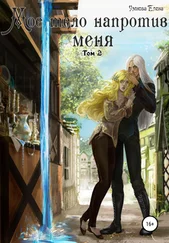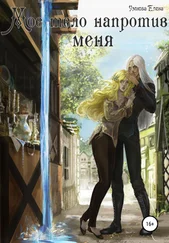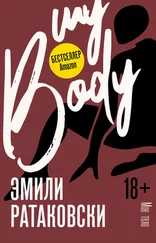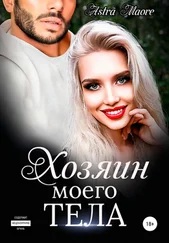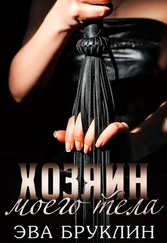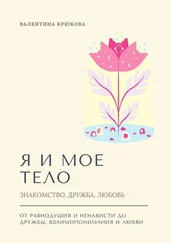Это было так, словно он сам подвел себя к козлу <���с помощью которого осуществлялось наказание розгами>, как если бы он сам связал себя по рукам, был своим хозяином и господином, своей защитой и защитником (S. 146).
В последнем предложении можно различить функцию диссоциации: воспитанник не становится жертвой неизбежной экзекуции, но сам выступает агентом в отношении своего тела. По крайне мере, таким образом можно воздействовать на боль самостоятельно, избегая тяжелейшего чувства беспомощности.
Часто такого рода расщепления встречаются в терапевтической практике. Цилли Кристиансен, пациентка с расстройством пищевого поведения, однажды сказала: «Я купила пакет яблок, чтобы сделать своему телу что-то хорошее. Вообще-то я не люблю яблоки». Таким же образом думает один из героев Цяня Чжуншу, своеобразный философ.
Он вздохнул: «Насколько лучше было бы обойтись вообще без тела и быть чистым духом. Мое тело мне совершенно безразлично, и я балую его только затем, чтобы оно надо мной не подшутило…» (Qian, 1946/2008, S. 135 и далее).
Возможно, склонность к ментальному расщеплению частей «Я», не только тела — черта современности. Сегодня можно часто услышать, например, в терапии: «Тогда я заметил, что я разозлился», — вместо целостного: «Я разозлился». Или же: «Я не знаю, как мне справиться с горем…». Перед нами тот, кто скорбит или мог бы скорбеть гораздо сильнее, и другой, который должен справиться с последствиями горя. В Süddeutsche Zeitung я обнаружил среди некрологов рекламу агентства ритуальных услуг:
Правильно встретить горе
Несчастный случай:
Почти всегда близкие не готовы к этому. Они шокированы, и эти переживания нередко выливаются в тяжелую депрессию. Многие думают, что горе нужно скрывать.
Но:
Эксперты рекомендуют плакать и делать записи всем, кто не может справиться с болью.
Тот, кто позволяет умершим «жить» после погребения, тот сохраняет их в своей памяти и может открыто говорить о них, легче справляется со скорбью.
В этих повседневных примерах можно увидеть отчетливую цель таких психологических мер защиты (с психоаналитической точки зрения, диссоциация — механизм защиты) или стоящее за ними — бессознательное — намерение. В случае, когда ожидаемый аффект слишком неприятен или, вероятно, даже невыносим, его держат в узде посредством расщепления на страдающую и наблюдающую (или даже действующую) части «Я». Это похоже на взрослого, который наблюдает за ребенком как бы со стороны безразлично, не разделяя его переживаний. Без диссоциации нельзя было бы вынести боль или сильный страх.
Функции отщепленного тела
Тело встает на место жертвы насилия. Тело как контейнер
Жертвы травматизации совершенно беспомощны, они — мячики для игры и вещи для агрессора, который может творить все что угодно (в том числе и с ними), поскольку у него есть власть. Основная цель диссоциации тела как следствия травмы — создать в своем теле «не-Я», чтобы иметь объект, над которым жертва, в свою очередь, обретает власть, с которым она может обращаться по своему усмотрению в грандиозной идентификации с агрессором, подражании ему (ср.: Hirsch, 1996). Жертва становится властным агрессором, диссоциированное тело — жертвой. Артур Гольдшмидт (2007) выражает эту мысль даже дважды: «С телом можно делать что угодно…» (S. 187); «С телом можно было, напротив, делать что угодно» (S. 204). То же говорят и упрямые девочки-подростки о своем самоповреждающем поведении: «Это мое тело, и я могу делать с ним что хочу!». Это типичное высказывание и дало название книге. Или же они говорят: «Это мои руки, я делаю с ними что пожелаю и когда пожелаю!» — как это выразила пациентка Подволла (Podvoll, 1969, S. 220). Многие отцы-насильники и агрессивные матери тоже говорят: «Это мой ребенок, и я могу делать с ним что захочу!». Беате-Теа была жертвой такого отца [4] См. главу «Диссоциация тела в ситуации травмы».
.
Представление Шенгольда (Shengold, 1979) о вертикальном расщеплении частей «Я», обособлении как попытке совладать с травмой (аналогия с теориями диссоциации Жане уже упоминалась) хорошо применима к диссоциации «Я» и тела. В литературе тело обозначалось и как контейнер (Meltzer, 1986; Bovensiepen, 2002; Pollak, 2009), и как «не-контейнер» (Gutwinski-Jeggle, 1995). По этой модели тело становится сосудом, который вбирает в себя травматическое насилие, место, в котором травматический интроект вновь становится материальным, так сказать, экстернализируется в тело. Но если подумать о модели контейнера в категориях отношений, то оно обретает функции объекта. Оно словно тело того ребенка, ставшего когда-то жертвой насилия или агрессии, которое освобождает остальные части «Я» от идентичности жертвы. Такое понимание встречалось у Плассмана (Plassmann, 1989) в связи с искусственно вызванными заболеваниями. Подобно тому как пациентка искусственно вызывает болезни, есть матери, которые вполне сознательно вызывают у своих детей искусственные, зачастую опасные для жизни болезни: это замещающий синдром Мюнхгаузена, в динамике которого мать регулярно лжет (выступая Мюнхгаузеном), т. е. нуждается в ребенке и его заболевании настолько, что боится раскрытия истинной причины его болезни. В абьюзивных семьях ребенок (или дети) зачастую становится тем, кому адресовано содержащееся в семье насилие, его своеобразным контейнером. Динамику девочек-подростков, склонных к самоповреждению, можно понять именно так: девочка производит обмен ролями «преступник — жертва», делая жертвой свое тело. Теперь она агрессор, а не жертва, она не беспомощна и не должна подчиняться, она может принимать решения и обретает власть, которой у нее нет в других ситуациях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Матиас Хирш «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» [Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела] обложка книги](/books/433440/matias-hirsh-eto-moe-telo-i-ya-mogu-delat-s-nim-ch-cover.webp)

![Стелла Грей - Владелец моего тела [litres]](/books/392903/stella-grej-vladelec-moego-tela-litres-thumb.webp)