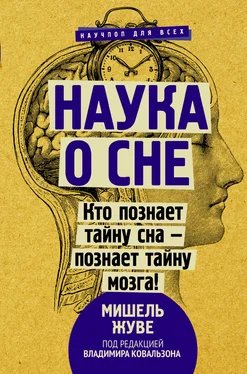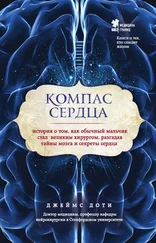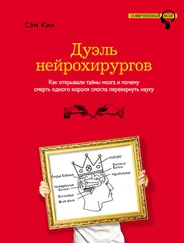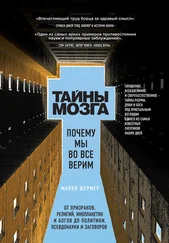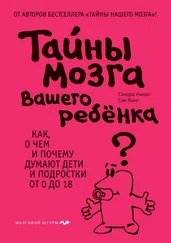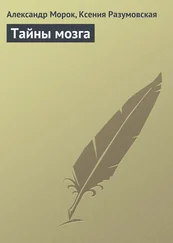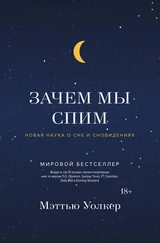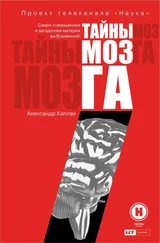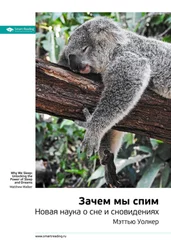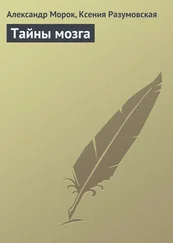А почему бы и нет? Но возникает впечатление, что Эдельман по мановению волшебной палочки рождает сознание из петель циркуляции возбуждения. Как фокусник, вытаскивающий из шляпы кролика, он «извлекает» сознание из нейронных петель.
Тем не менее, теория Эдельмана на сегодняшний день, несомненно, представляет собой самую совершенную попытку объяснения нейробиологических основ сознания.
Глава 9
Существуют границы научного познания человека
Меня вдохновила на написание этой главы статья Гюнтера Стента, написанная сорок лет назад ( Stent G. Limits to the scientific understanding of man // Science, 1975, 187 (4181), p. 1052–1057 ), которая оставила настолько сильный след в моем сознании, что я прочитал целую лекцию об этом моим студентам-медикам третьего курса в 1980 учебном году.
На протяжении более двухсот лет познание мира опирается на эпистемологические данные позитивизма и структурализма.
Позитивизм появился в XVIII веке благодаря французским энциклопедистам, а затем Дэвиду Юму и Огюсту Конту. Это течение опирается на следующие представления: опыт — единственный источник знания; источник разума пуст в момент рождения (“Nihil est in intellectu quod non fuerit primor in sensu”, « Нет ничего в нашем разуме, что прежде не было бы воспринято чувствами »). А значит, нет в мире никакого врожденного знания.
Позитивизм мало интересовался физическими науками; в конце XIX он отвергал атомарную теорию под тем предлогом, что никто никогда не видел атома!
В гуманитарных науках — психологии, этнологии, лингвистике — позитивизм играл исключительно описательную или таксономическую роль, но эти описания не сопровождались никакими теориями познания человека.
Структурализм признает, что существует врожденное знание ( не возникающее из опыта). Разум, конечно, конструирует реальность на основе опыта, но делает это благодаря неким врожденным понятиям. Следовательно, исключительно важно знать природу этих понятий, притом, что одного только простого наблюдения для этого недостаточно, так как поведение человека опирается на некие «глубинные структуры».
Самым знаменитым из основателей структурализма был Зигмунд Фрейд. По его мнению, поведение человека находится под влиянием не тех событий, которые мы осознаем, а скорее, «глубинных структур» подсознания, которые не могут быть вскрыты ни объективно, ни субъективно. А значит, их надо выявлять по косвенным признакам с помощью анализа поверхностных структур в соответствии с психодинамическими представлениями о правилах взаимодействия между глубинными и поверхностными структурами.
К сожалению, явная слабость психоанализа состоит в том, что его гипотезы невозможно проверить. Вот почему в попытках понять сверхсложное поведение человека структуралистские теории все еще остаются «приемлемыми».
Способность к индуктивному рассуждению, очевидно, появляется у человека еще до возникновения рационального опыта. Кант упорно настаивал на том, что чувственные ощущения превращаются в рациональный опыт (иными словами, приобретают смысл) только в том случае, если они интерпретируются с таких априорных позиций, как пространство и время . В этом случае индукция , или причинность, позволяют разуму воссоздать реальность посредством рационального опыта. Кант назвал эти понятия трансцендентными , так как они трансцендентны по отношению к рациональному опыту (то есть превосходят его, выходят за пределы рационального познания).
Кантианское понятие априорного знания полностью соответствует современной эволюционистской мысли. Действительно, априорные кантианские понятия (времени, пространства и причинности) кажутся встроенными в наш мир, поскольку наследственные детерминанты психических функций эволюционировали в наибольшей степени, так как отбирались по своей эволюционной важности точно так же, как это происходит с генами, лежащие в основе врожденного поведения. Так, у новорожденного ребенка действие, состоящее в сосании материнской груди, не нуждается ни в каком обучении.
Эти эволюционные (дарвинистские) соображения трансцендентны, то естьпревосходят поддержку кантианской эпистемологии со стороны биологии. Действительно, эволюция нашего мозга может объяснить не только окружающий мир, но также и то, почему такие понятия становятся менее полезными, когда мы пытаемся исследовать и понять мир в его самых скрытых и глубоких научных аспектах.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу