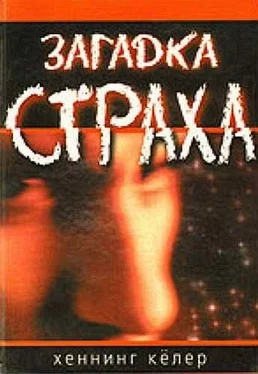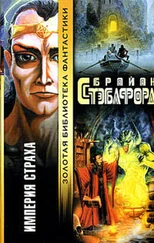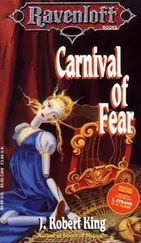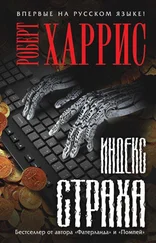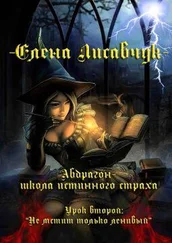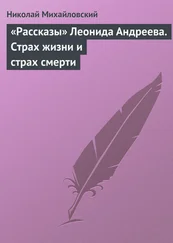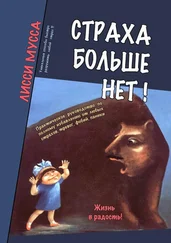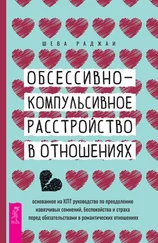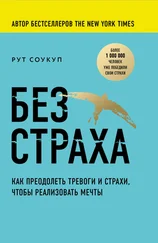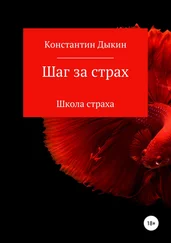Я восхищен надежными вещами —
душа, войдя в них, зацвела;
ушло стремленье делать их рабами,
и мудрость — ими быть — пришла [15] Ch. Reinig, Die Prьfung des Lдchlers, Mьnchen 1980.
.
Запомним: чтобы обрести согласие с «надежными вещами» — внутри и вокруг нас, — требуются известная безопасность и дистанция, тогда раскроются их полезные, нужные и позитивные стороны. Они остаются скрытыми от нас и когда мы беззащитны перед ними и рефлекторно впадаем в страх или встаем в оборонительную стойку, и когда мы забираемся в «изолятор». В доме, в пресловутой «крепости», можно забаррикадироваться, а можно жить с искренним интересом, и тогда, в идеальном случае, оттуда будет струиться любовь ко всему, что дано Богом миру, в котором мы живем.
Человеку, опасающемуся удара молнии, совершенно недоступна поэзия ночной бури, и было бы абсурдно читать ему лекции о пользе весенней грозы для природы и людей, пока он отчаянно мечется в поисках укрытия. Нам нужен «дом», нужны «границы, установленные своими или чужими силами», — только тогда мы получаем «способность действовать» (Хиклин) и, добавлю от себя, познавать. Только тогда мы обретаем достаточное спокойствие, рассудительность и нужную глубину восприятия в отношении к всему «чуждому», к силам, с «беспощадным» своеволием орудующим независимо от нас. Если говорить о внешней природе, то слово «дом» нужно понимать буквально. Но что оно значит применительно к «природе внутренней»?
Перенеся наш пример на внутренний мир человека, мы приходим к результатам на первый взгляд парадоксальным. Ведь и здесь живут «стихии», и суверенная, управляемая сознательными решениями воля может либо враждовать, т. е. так или иначе уступать им, либо подружиться с ними, т. е. разрешить противоречия и принять их. В случае страха как проявления одной из таких стихий парадоксальность нашего примера особенно очевидна — страх сам попадает в разряд событий, вызывающих страх. Но тот, у кого есть хоть какой-то опыт общения с измученными страхом людьми, знает, что это не только оправданно, но и в точности отражает суть дела.
Когда страх становится для человека неизбывной мукой и, чего доброго, перерастает в болезнь, проблема — и это опять-таки звучит парадоксально — состоит отнюдь не в страхе, знакомом нам всем, а в боязни страха. Итак, по существу, патология заключается в искажении отношения к страху, чувству совершенно естественному, в той или иной степени присущему всем людям в зависимости от наследственной предрасположенности, темперамента и личной предыстории, причем, как мы увидим, присущему неизбежно.
Иначе говоря, сфера страха подразделяется на два уровня (вообще-то их три, но об этом позже). Во-первых, страх для нас в самом деле нечто вроде внутреннего природного процесса, начинающегося при определенных условиях вне зависимости от нашего желания, но чаще всего по понятным причинам. С другой стороны, наша реакция на этот «природный процесс», наше возможное отношение к нему, оценка и способ управляться с ним могут быть более или менее боязливыми либо, в лучшем случае, почти бесстрашными. Другими словами, в страхе всякий раз присутствует и что, и как.
Поясню это на личном примере. Когда мне приходится выступать перед широкой публикой, с одной стороны, от моего уже довольно солидного опыта нет никакого проку: незадолго до выступления мне становится страшно. Но с другой стороны, прок все же есть — страх не мешает мне! Совсем наоборот, я заметил, что боязливое начальное волнение, такое же, как у актера перед выходом на сцену, положительно сказывается на качестве лекции! Со временем выясняется, что лучше всего, если это волнение достигает довольно высокого уровня. Что же происходит? Я не боюсь страха! Я дружески приветствую его, и внезапно он начинает мне помогать, активизируя противоположные силы, а они словно бы перерастают свою первичную задачу — сломить барьер страха — и принимаются стимулировать воображение и мысли.
Но откуда же взять дружелюбное отношение к страху? Условие первое: в теме предстоящего выступления я должен чувствовать себя «как дома». «Дом есть место, где мы знаем, как себя вести, уверенно „владеем“ этикетом и с удовольствием его придерживаемся, т. е. любим» [16] См. прим. 8.
. Темой нужно не просто владеть, но «любить» ее, и это — второе условие: любовь к предстоящему действию! Только не надо путать ее с влюбленностью в представление о том, что действие предстоит выполнить именно мне. Любить надо само действие! И наконец, третье — процесс, описать который непросто: мы «собираемся, сосредоточиваемся». В момент своего появления страх несет противоположную тенденцию: мы рискуем раствориться. Мысли путаются, даже в наших движениях сквозит беспокойство, пугливость, все словно «разжижается». У нас тут же возникает потребность сосредоточиться, закрепиться. Чаще всего мы закрываем глаза и стараемся дышать ровно, лучше в спокойном месте, где никто нас не потревожит. Примерно так развиваются события с момента возникновения страха, всегда парализующего, и до активного вмешательства в ситуацию. Мы вспоминаем о «сродстве» с поставленной задачей: «я знаю, что справлюсь»; проникаемся симпатией к предстоящему действию: «речь идет не обо мне — о деле, а дело-то благое»; внутренне сосредоточиваемся и целенаправленно успокаиваем беспорядочно блуждающие волевые силы: «я здесь и буду делать все, что смогу, во имя благого дела».
Читать дальше