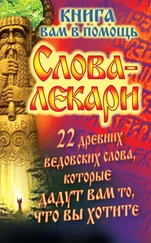На следующий день Жан-Пьер остался со мной. Я оповестила брата, что мы привезем мать к нему, после того как ее осмотрит врач, и что, возможно, послезавтра ему придется сопровождать ее в клинику.
Я собрала ее вещи. Это не заняло много времени, она не открыла ни одного чемодана. У нее была тяжелая корзина, в которой я нашла пустые бутылки, тщательно обернутые, чтобы не звенели. Куда она собиралась их выбросить? Она увидела, что я занимаюсь упаковкой.
– Что ты делаешь?
– Собираю твои вещи. Повезем тебя к доктору, потом к моему брату.
– Я хочу остаться здесь.
– Нет.
Она на самом деле забыла о сцене, разыгравшейся накануне или не хотела вспоминать? Ничего в ее поведении не свидетельствовало о том, что между нами что-то произошло, что она предстала передо мной в малопристойном виде и что я говорила с ней грубо, как не было принято между нами. Она была рассеянная, вялая, опять без всякого выражения в глазах, в глубокой безысходности.
У врача мы ждали долго, в полном молчании. Она то и дело жалобно просила: «Хочу пить, хочу пить». Я попросила стакан воды. Наконец врач ее принял. Она хотела, чтобы мы во что бы то ни стало присутствовали при их беседе. Доктор же предпочитал, чтобы она была одна, а мы ждали ее в коридоре. Но нет, она настаивала, поэтому мы вошли вместе с ней. Она села перед доктором, а мы сели в сторонке, за ее спиной, на двух стульях.
Задав ей несколько предварительных вопросов относительно возраста, прежнего состояния здоровья, давления, принимаемых лекарств и т. д., доктор наконец попросил ее рассказать о своей жизни.
Я была очень удивлена, что она не пришла в себя, увидев специалиста. Для нее медицина была чем-то радостным и значительным. Она сама была замечательным целителем, ее диагноз всегда был очень точен, а ее руки были исключительно умелы при пальпации, лечении, ухаживании, успокоении. В этом смысле у нее был дар, она это знала, это было предметом ее гордости, и вообще, как только она встречалась с кем-нибудь из представителей медицинского корпуса, чувствовалось, что этот человек ей интересен. Но в тот день, при виде специалиста, ее поведение не изменилось. Она осталась в состоянии прострации, шаркала ногами, когда шла в другое помещение, сухие губы обвисли.
Все же, когда доктор попросил ее рассказать о своей жизни, она стала понемногу оживляться. Начала говорить быстрее и яснее. До этого у нее была каша во рту. Она рассказывала о том, как покидала Алжир, о Франции. Говорила, что Франция ей не нравится, не нравятся ей и французы, даже генерал де Голль. Что ей не нравится ВСА. Нет, все они были просто отвратительными. Она по-прежнему тосковала по Алжиру, по нескончаемой веренице больных в лохмотьях, ожидающих от нее утешения, по сладким пирогам, которые она получала от них в знак благодарности, по букетам полевых тюльпанов.
Затем ее мысли вернулись в прошлое, к тому, как она стала лечить людей, к ее ежедневным визитам в диспансеры центрального квартала, к переездам на медицинских грузовичках из деревни в деревню, чтобы делать людям уколы, перевязки, выслушивать бедняков.
Потом ее мысли пошли дальше, вернулись в более ранние времена: замужество, смерть дочери.
Я никогда не слышала, чтобы она просто говорила на эту тему – о том мужчине, который шокировал и притягивал ее, о любимой девочке, которая была похожа на того мужчину. Мне казалось неприличным то, что она рассказывала, как неприличным показалось вчера вечером увидеть ее с раздвинутыми ногами в собственных нечистотах. До этой минуты она была моей матерью, только матерью, а не самостоятельной личностью.
Я опустила голову. Я думала об имени матери. Для меня она не имела имени, она – «мать». Сейчас, в кабинете парижского врача я впервые видела Соланж де Талбиак (какое опереточное имя!), которую друзья называли Сосо. Сосо на солнце, под тенью шляпы с широкими полями, с капельками пота на верхней губе, потому что ее светлая кожа не выносила жары. Сосо в саду родителей с охапкой цветов в руках, в платье из белого муслина, которое цеплялось за кусты розмарина на аллее, с не осознаваемым желанием в животе быть с мужчиной, который направлялся к ней, красивый француз, от которого издалека пахло авантюрой. Сосо – нежная, очень юная, невинная. Зеленые глаза Сосо, такие красивые, такие ясные, такие жаждущие счастья, такие неискушенные…
Волнение душило меня. Женщина, которая говорила, была такой трогательной, такой наивной и такой отчаявшейся: было слишком поздно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу