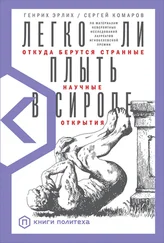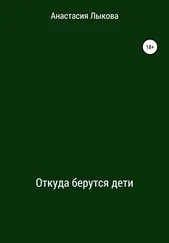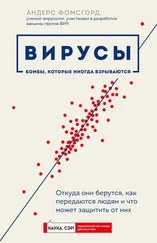«Неизлечимый писательский зуд»
В 1998 г. Элис Флаерти, невролог Гарвардской медицинской школы, родила недоношенных двойняшек, которые умерли вскоре после появления на свет. Она провалилась в черную бездну отчаяния, из которой, казалось, не будет выхода. Но прошло чуть более недели, и Элис охватило совершенно иное чувство — неодолимая потребность писать, выразить на письме каждую свою мысль, излить на бумагу переполняющий ее поток переживаний. Она и прежде много писала, ведя во время ординатуры такие подробные записи, что из них получился учебник неврологии. Однако после смерти сыновей «казалось, кто-то нажал на рычаг», сказала она в интервью Psychology Today в 2007 г.: «Все представлялось настолько важным, что я должна была все это записать и сохранить».
Неспособная противиться желанию писать, она делала заметки на собственном предплечье, стоя в дорожных пробках. Царапала на стикерах мысли, с которыми просыпалась среди ночи. Четыре месяца она ничего больше не могла делать. Более того, неодолимая компульсия записывать все размышления и переживания вернулась спустя год, когда у нее родились две девочки, также недоношенные, но на сей раз выжившие. Одним из результатов стала вышедшая в 2004 г. книга «Полуночная болезнь» (The Midnight Disease), посвященная как способности, так и неспособности писать (нейробиологии креативности и причинам писательского блока) с кратким обзором известной ей на личном опыте гиперграфии — неодолимой компульсии писать, причем много и подробно, как Достоевский. «Что-то давило меня изнутри, требуя выхода, как будто сама я пыталась от себя освободиться, — поведала Флаерти читателям. — Слова неслись из меня, будто крысы с тонущего корабля… не успевающие выбраться, как бы ни старались».
Поэтесса Тина Келли описывает физически ощутимые дискомфорт и беспокойство, одолевающие ее, если она слишком долго не творит. «Когда я переживаю любую жизненную драму, то первым моим побуждением становится рассказать о ней в дневнике, просто чтобы освободиться, а затем описать снова, уже в стихотворении, чтобы освободить от нее весь свой мир, — объяснила она. — Я всегда чувствовала целительное свойство сочинительства». В начале каждого дня она «обязана» записать, что произошло накануне, и, если сопротивляться этой компульсивной потребности, игнорировать ее — хотя бы медлить с откликом из-за множества других дел «или потому, что жизнь — это безумие», — тревога становится гнетущей. Келли издала два сборника поэзии и, поскольку стихами сыт не будешь, много лет проработала репортером в New York Times . Террористическая атака 11 сентября 2001 г. застала ее в штате газеты, выпустившей с 15 сентября 2001 г. по 10 сентября 2002 г. более 2500 «портретов жертв» — литературных образов-набросков многих из тех, кто погиб в тот день. Келли написала 121 портрет, и ею также двигала неодолимая потребность навеки сохранить образы погибших людей в одном-двух выразительных штрихах: вот пожарный, носивший единственные в его части форменные ботинки 48 размера, а вот финансовый работник, в детстве догадавшийся нагрузить самодвижущуюся газонокосилку шлакобетонным блоком, чтобы она стригла газон без его участия. «Было бы несправедливо не сделать [их портреты]», — сказала Келли. Ее компульсию можно усмирить, только сдавшись ей, поэтому она пишет, пишет и пишет.
Компульсивная потребность писать, вероятно, существует с тех давних пор, когда первый вавилонский писец коснулся стилосом глиняной таблички. В V в. до н.э. Гиппократ назвал ее «священной болезнью». Описание «неизлечимой болезни писательства» оставил римский поэт начала II в. Ювенал. Проявление этой склонности у Золя заинтересовало его современников-ученых, однако следующие поколения исследователей практически не уделяли ей внимания.
Ситуация начала меняться в 1970-х гг. В новаторской статье неврологов из Бостона Стивена Ваксмана и Нормана Гешвинда была прослежена связь гиперграфии у семи больных эпилепсией с «коротким замыканием» в височной доле головного мозга. Электрическая активность в этой области мозга не только провоцировала у пациентов судорожные припадки, но и заставляла их писать. Одна больная, которой на момент исследования было 24 года, с пятнадцатилетнего возраста «ежедневно по несколько часов вела записи» и «постоянно имела при себе несколько блокнотов», сообщили врачи в журнале Neurology в 1974 г. Сама она объяснила это стремлением «знать, чем занята», поэтому она фиксировала все, «что делала в предшествующие часы», включая описание приступов и галлюцинаций. Кроме того, она составляла обширные списки, в том числе треков в своей фонотеке, песен, которые ее отец играл на губной гармошке, мебели в своем жилище, а также всего, что ей нравилось и не нравилось. Она вспомнила, что, «по крайней мере, несколько сот раз записала слова песни, которую выучила в семнадцать лет,.. на всем, что было под рукой (обрывки бумаги, салфетки)». Кроме того, по ее словам, «иногда она испытывала потребность многократно записывать одно и то же слово и однократно или несколько раз переписывать этикетки купленных товаров».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
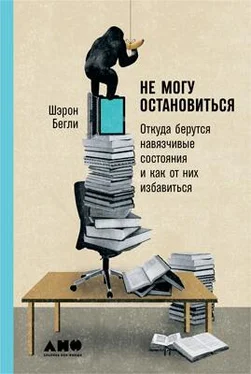


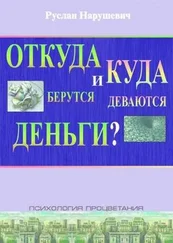
![Андерс Фомсгорд - Вирусы. Откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них [litres]](/books/384529/anders-fomsgord-virusy-otkuda-oni-berutsya-kak-pe-thumb.webp)