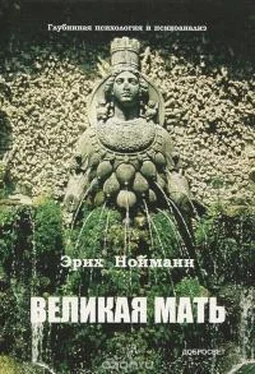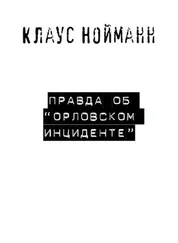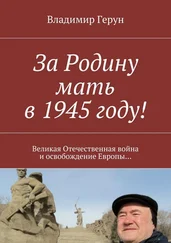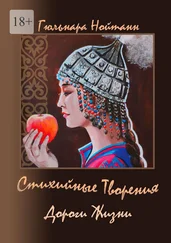Женско-материнская мудрость – это не абстрактное, безучастное знание, а мудрость любящего соучастия. Как бессознательное реагирует и отвечает, как тело «реагирует» на полезную еду или яд, так и София является живым, вечно присутствующим рядом божеством, к которому всегда можно обратиться, которое всегда готово вмешаться; она не божество, недоступное человеку в нуминозной отдаленности и отчужденном уединении.
Таким образом, духовная сила Софии является живой и спасающей; ее переполненное сердце – это мудрость и питание одновременно. Питающая жизнь, которую она сообщает – это жизнь духа и трансформации, а не привязанной к земле материальности. Как духовная мать, она, в отличие от Великой Матери на низшей фазе, заинтересована не только в младенце, ребенке и незрелом человеке, цепляющемся за нее на этих стадиях. Она скорее богиня Целого, управляющая трансформацией от элементарного до духовного уровня; желающая, чтобы все люди познали жизнь во всей ее широте, от элементарной фазы до фазы духовной трансформации.
В патриархальном развитии иудео-христианского Запада с его маскулинным, монотеистическим уклоном к абстракции богиня как женская фигура мудрости был смещена и подавлена. Она сохранилась лишь втайне, по большей части еретическими и революционными путями. Проследить эти пути не является целью нашего исследования. Здесь мы не будем обращаться ни к сохранению Великой Матери как ведьмы, ни к ее возвращению в Возрождение и повторному восхождению в современности.[129] Мы должны удовлетвориться иллюстрированием архетипической и неудержимой жизненности Великой Матери некоторыми изображениями из христианской сферы.
( Илл. 176-7 ) Рассмотренная снаружи, « Vierge Ouvrante » - это знакомая и непритязательная мать с ребенком. Но если ее открыть, она являет в себе еретический секрет. Бог-Отец и Бог-Сын, обычно изображаемые как небесные повелители, которые из чистого милосердия возносят скромную земную мать к себе, оказываются содержащимися в ней, оказываются «содержаниями» ее всеприемлющего тела.
( Илл. 178 ) Но Великая Мать жива не только в ней и других Мадоннах с «мантиями», укрывающих нуждающееся человечество под своими распахнутыми плащами. Ее можно различить в еще одной христианской фигуре, хотя это обстоятельство прошло почти полностью незамеченным.[130] ( Илл. 180 ) На изображениях «Св. Анны с Девой и Младенцем»[131]единство женской группы матери-дочери-ребенка, Деметры, Коры и божественного сына повторяется во всем своем мифическом величии. И часто на этих картинах черты Коры-дочери в Мадонне по отношению к Анне как Великой Матери подчеркиваются даже внешне: здесь Мадонна с Христом сидит на коленях Анны, сама как маленький ребенок. ( Илл. 181 ) Детское качество в Деве еще сильнее подчеркивается некоторыми образцами христианской народной скульптуры в латинских странах.
В противоположность этому западному развитию, в котором патриархальный элемент почти всегда накладывается и зачастую подавляет матриархальный, фундаментальная матриархальная структура оказалась столь сильна на Востоке, что с течением времени наложенная на нее патриархальная ситуация либо полностью аннулировалась, либо стала весьма относительной. Это можно увидеть не только в индуизме, но и в буддизме, который поначалу был патриархально абстрактен и враждебен природе. Здесь Гуань-инь – это богиня природы, которая «слышит крик мира» и жертвует своей буддовостью ради страдающего мира; она Великая Мать в облике любящей Софии.
В Индии древняя матриархальная Богиня вновь утвердилась и вернула свое место Великой Матери и Великого Круга. ( Илл. 182 ) Мы имеем в виду не только тантрическую Шакти. Сама Кали в своем позитивно и уже не ужасном аспекте является духовной фигурой, которая по своей свободе и независимости не имеет равных на Западе. А на еще более высоком уровне стоит «белая Тара», символизирующая высшую форму духовной трансформации посредством женственности. ( Илл. 183 )
( Илл. 184 ) Тара почитается как «та, кто в разуме всех йогов выводит ( tarani ) из тьмы связанности, [как] изначальная сила самообладания и искупления».[132]Тогда как на низшем плане она защитница и искупительница, tarati iti Tara («счастливо переводящая на ту сторону», потому она названа Тара),[133] на высшем плане она выводит из мира вовлеченности в сансару, который сама создала в облике Майи. Так, Тара появилась, когда взбалтывали море знания, квинтэссенцией которого она является.[134]
Читать дальше