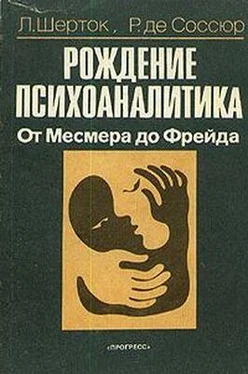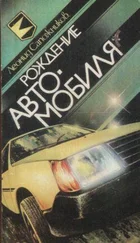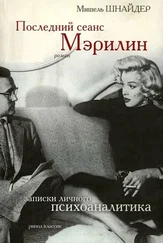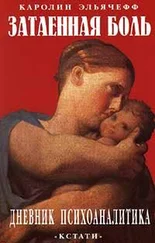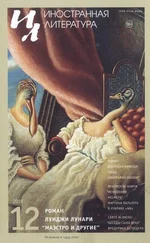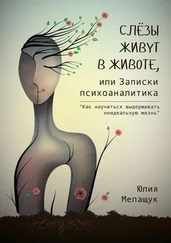В самом общем виде вопрос о внушении, гипнозе и их месте в психоанализе — это вопрос одновременно и о внутренней и о внешней границе психоаналитического опыта. Впрочем, с точки зрения современной философии в ее постмодернистских вариантах, этот вопрос не имеет особого смысла, ибо понятия внутреннего и внешнего более не воспринимаются как полярные: они теснейшим образом переплетены. В любом случае гипноз и внушение (как «внешнее» условие или как «внутренняя» предпосылка психоанализа) — это, согласно Л. Шертоку, биологически врожденная матрица развивающихся в дальнейшем межличностных отношений. Феномен гипноза находится как раз на стыке социального, биологического, психологического, и потому для его постижения необходимы совместные усилия многих наук. Однако сходство между гипнозом и психоанализом вовсе не означает, что гипноз и внушение призваны заменить психоанализ. Гипноз и психоанализ не покрывают друг друга: в психоанализе есть много такого, что никак не связано ни с внушением, ни с гипнозом, и наоборот, гипноз — это вполне самостоятельная разновидность психотерапевтической практики (в современных исследованиях, например, выдвигается гипотеза о роли гипноза в повышении иммунитета и соответственно — в противораковой терапии). Кроме того, хотя гипноз и психоанализ в чем-то близки, один воздействует прежде всего на волю, а другой — на сознание. Однако гипноз, как утверждается, в частности, в «Возрожденном внушении», должен стать частью профессиональной подготовки психоаналитиков. Это позволит, снимая табу, и поныне тяготеющие над гипнозом, прояснить его роль в психотерапии. Речь идет, таким образом, не о сомнениях по поводу достижений психоанализа — а они бесспорны, — но о таком этапе в его развитии, на котором в нем возникают и основополагающие вопросы о пределах и границах собственного опыта, о значимости доводов и результатов: от решения всех этих вопросов будет зависеть и дальнейшая судьба психоанализа.
Из всего сказанного читатель уже мог, по-видимому, сделать вывод, что в книге Шертока и де Соссюра налицо некое противостояние как классической традиции психоанализа, так и некоторым его современным вариантам. Однако водораздел между этими позициями проходит не по той линии, как можно предположить. Позицию Шертока и его сторонников не следует трактовать в духе некоего «гносеологического сентиментализма» — как предпочтение чувств и аффектов строгому и холодному разуму. В действительности речь идет здесь вовсе не о том, что противоположно разуму, а о том, что имеет свои критерии проверки, обоснования, доказательства, быть может, непривычные или вовсе не доступные науке на нынешней стадии ее развития. Предлагаемая в книге позиция — не антирационализм с характерным для него стремлением укрыться на уровне «симбиотических» слияний от свободы, от ответственности, от развитой, концептуально организованной мысли; скорее это попытка прорваться к новым пластам осмысления аффекта, эмоции, чувства — в соотношении с разумом, а не безотносительно к разуму. В частности, призывы к междисциплинарным исследованиям гипноза и внушения как раз и подразумевают возможность более глубокого рационального постижения тех областей человеческой души и тела, о которых нам еще так мало известно.
Итак, вот основная идея книги — значимость аффективных факторов, внушения и гипноза в генезисе психоанализа, в психоаналитической практике, вообще — в структуре межличностных отношений. Возникает вопрос: насколько актуален для нас сегодня этот урок? Нужен ли он нам вообще? Существует мнение, что для нас эта проблематика не очень актуальна, поскольку у нас есть свои русские традиции психоанализа, для которых никогда не был характерен разрыв между гипнозом (внушением) и психоанализом [12] Как известно, Россия была одной из первых стран, с энтузиазмом принявших учение Фрейда. В 20-е годы были изданы на русском языке почти все работы Фрейда, созданы Государственный психоаналитический институт и Русское психоаналитическое общество. С конца 20-х годов начинается долгий сталинский период политической, экономической и культурной изоляции, во время которого общество и институт были закрыты, а слово «бессознательное», как и само имя Фрейда, практически изъято из употребления. «Советский фантазм» полной социальной интеграции, как пишут западные историки русского психоанализа, противоречил конфликтной теории психики, предложенной Фрейдом.
. Согласно одной из традиций в рамках русского психоанализа, гипноз и трансфер — это разные стороны одного и того же врожденного механизма, обеспечивающего в первые годы жизни ребенка усвоение тех или иных навыков поведения в общении с близкими. Другая традиция была связана с интересом к физиологическим обоснованиям учения Фрейда: в 20-е годы это нашло свое отражение в обращении русских психоаналитиков к сеченовской рефлексологии. Интересовался физиологическими механизмами психоаналитического воздействия и И. П. Павлов. Однако в данном случае речь идет прежде всего о физиологических, а не о психологических подходах к гипнозу и внушению. А кроме того, русская психоаналитическая традиция в целом была все же не настолько прочна, чтобы полагаться на нее после столь долгого перерыва. Во всяком случае, для тех широких кругов читателей, которые ныне впервые открывают для себя Фрейда, никакого собственного, сбереженного духовного наследия, никакой непрерывной традиции не существует, и во всей специфике западных воздействий ему придется разбираться самостоятельно.
Читать дальше