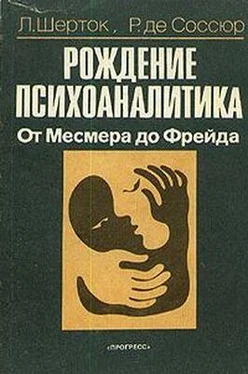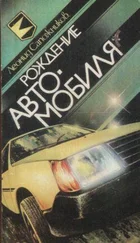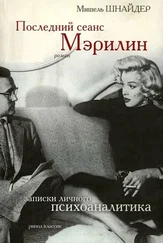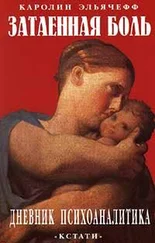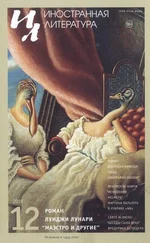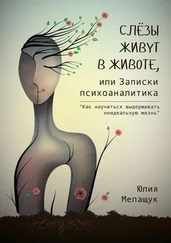Для возникновения психоанализа нужны были, помимо открытия трансфера, и другие компоненты, например, идея психологической (а не чисто физиологической, как считалось ранее) природы истерии, важности детских психических травм (включая и сексуальные) в дальнейшем развитии личности и в образовании тех или иных патологических симптомов, владение техникой гипноза, способность вызывать, а затем устранять экспериментальные неврозы, доказывая тем самым действенность бессознательного, выявление в истерии сексуальных аспектов, разработка самого понятия бессознательного и пр. Все эти составные элементы были объединены в одну общую теорию в 1895 году. Однако связывает все эти различные линии воедино, с точки зрения авторов книги, именно концепция трансфера. В трансфере, как считал сам Фрейд, препятствие к познанию и психоаналитической работе превращается в стимул и движущую силу такой работы.
Для того чтобы понять, как, собственно, происходит такое превращение, постараемся представить себе психоаналитический сеанс. Основное правило для больного — говорить все, что приходит в голову. Он обычно лежит на кушетке, видимый врачу, но сам не видящий врача, и рассказывает, что хочет. Поначалу Фрейд принимал содержание рассказов своих пациентов за реальность, но вскоре понял, что речь идет о неосознанно искаженных событиях, о фантазмах — воображаемых слияниях желаемого и действительного. Одни только паузы или, скажем, ограниченность, бедность ассоциаций применительно к какому-то событию или предмету уже могут свидетельствовать для врача о наличии вытеснений — то есть о передвижении травмирующих событий в более спокойные зоны бессознательного, где они уже не причиняют невыносимой душевной боли, но лишь косвенно проявляются в изменениях речи и поведения. Как заключал Фрейд на основе анализа сновидений — особенно плодотворного материала для наблюдения за свободной игрой ассоциаций, — язык, речь больного, независимо от тех вторичных переработок и рационализации, которые придают рассказу о сновидении связный вид, позволяют судить о наличии тех или иных психических травм, как правило, пережитых в детском возрасте. В любом случае сгущение (совмещение различных понятийных рядов) и смещение (выдвижение на передний план какой-то одной, на первый взгляд незначительной детали и соответственно искажение всего повествования) элементов речи свидетельствует о психической патологии и требует дальнейшей работы — распутывания запутанного и восполнения отсутствующего. Во время рассказа психоаналитик, как правило, молчит, но поддерживает рассказ своим вникающим слушанием. Нередко пациент обращается к врачу с вопросом или, как позднее стал говорить Ж. Лакан, с «запросом». Следуя правилу «нейтральности», врач понимает, что чувства пациента направлены не на него лично, а на некое «третье» лицо (на какой-то значимый в его жизни персонаж), и потому не поддается на «провокации», не отвечает ни на положительные, ни на отрицательные чувства пациента, направляя тем самым его душевную энергию на осмысление событий собственной жизненной истории. Неудовлетворенный «запрос», странствуя по различным уровням психики, меняя свою форму, все ближе подходит к тому архаичному психическому слою, где в сколь угодно искаженном и запутанном виде запечатлены неразрешенные психические конфликты или — еще глубже — потребность в материнской (родительской) любви.
Как известно, Фрейд считал свою концепцию психоанализа и, в частности, трансфера, научной и рациональной. Воспоминание, прояснение и осознание жизненных травм должны были, по его мнению, привести к излечению больного. Трактовка трансфера как рационально контролируемой процедуры должна была подтвердить необратимость генезиса психоанализа как научной дисциплины из донаучных видов психотерапевтической практики: по сути, Фрейд считал психоанализ излечением через осознание. Таким образом, Фрейд преувеличил силу разрыва психоанализа с его эмоциональными, гипносуггестивными истоками. Именно этот момент со всеми последующими сомнениями Фрейда ярко показан в книге Шертока и де Соссюра. Отказавшись от гипноза в своей практике, Фрейд, по-видимому, недооценил и сложность устранения взаимного переноса эмоций между врачом и пациентом, и наличие в психоанализе неконтролируемого внушения, подчиняющего больного воле и мысли врача в большей степени, нежели это допускает тезис о «нейтральности» и «невовлеченности» психоаналитика. Столь же избирательно Фрейд воспринимает те трудности, которые связаны с функционированием психоанализа как особого социального института [6] Фрейд, как известно, не только организовал Международную психоаналитическую ассоциацию, которая была призвана распространять и пропагандировать его учение; он верил в возможность организации-братства и даже подарил своим ближайшим сподвижникам (Ференци, Абрахаму, Джонсу, Заксу, Ранку, Эйтингону) камни для изготовления перстней в знак взаимной верности и дружбы, хотя и его отношения с учениками, и отношения его учеников между собой были, мягко говоря, далеки от идиллических, а подлинные причины этого не могли ограничиваться «несходством характеров» или же обычными «теоретическими разногласиями».
. Речь идет прежде всего об отношениях между членами психоаналитического сообщества, учителями и учениками. Как известно, условие самостоятельной практики для психоаналитика — прохождение курса личного психоанализа под руководством опытного наставника («дидакта»). При передаче психоаналитических навыков и знаний особую роль приобретает личная эмоциональная зависимость ученика от наставника и, следовательно, возникает опасность работы в психоанализе лиц с «неснятым трансфером», институционализация пожизненного неравноправия между членами психоаналитического сообщества.
Читать дальше