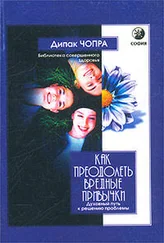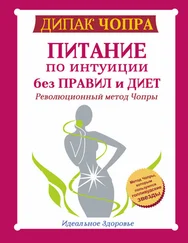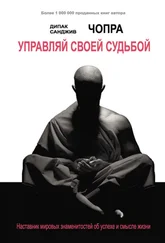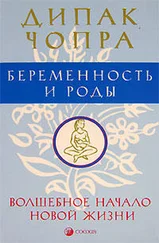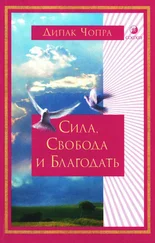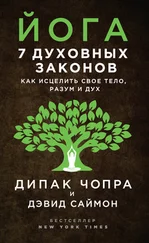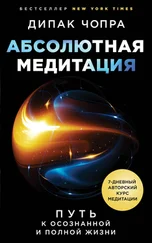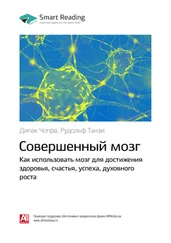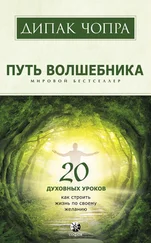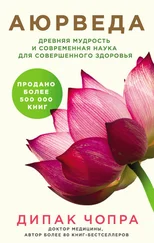В 2013 году они провели исследование, в качестве объектов которого взяли группу людей, практикующих медитацию – экспертов, посвятивших ей больше десяти тысяч часов, и новичков. Всем им сделали МРТ мозга, чтобы изучить мозговую активность во время ожидания боли, непосредственно в момент болевых ощущений и в процессе привыкания к боли. Приборы показали, что эксперты по медитации испытывали боль с той же интенсивностью, что и новички. Однако сами они оценивали неприятные ощущения как более терпимые, а значит, страдали меньше. Что касается физиологических процессов, протекавших в мозге испытуемых, ученые объяснили, что данное различие восприятия было обусловлено повышенной активностью в передней островковой доле большого мозга и передней поясной коре, также известной как «сеть выявления значимости». Эта сеть отвечает за субъективное восприятие чувств и расстановку приоритетов.
Но почему специалисты по медитации замечали болевые ощущения быстрее, а страдали от них меньше? Дело в том, что они меньше ассоциировали себя с болевыми ощущениями, чем контрольная группа новичков, и их не так беспокоила мысль об ожидании боли. Зато когда боль появлялась, они сразу замечали ее и быстрее привыкали к ней. Субъективные оценки участников основной группы, сообщивших, что они чувствовали себя спокойно, сохраняли концентрацию и не испытывали волнения, подтвердило сканирование мозга.
Из этих открытий следует простой вывод: сознание способно облегчать страдания человека, даже если уровень физической боли не меняется. Чему это может научить нас? Исцелиться – значит избавиться от страдания, и каждому из нас следует стремиться к этому идеалу, даже если мы не скоро сможем достичь его. Давайте познакомимся с историей человека, который на это решился.
История Даррена: внутренние перемены и обновление
Даррену сорок пять лет, он женат и живет в штате Колорадо. Он не ставил своей целью кардинально измениться, однако это случилось, и произошедшие с ним перемены изумили одноклассников, которые помнили его со времен колледжа.
«Я рос в благополучной семье, – рассказывает Даррен, – и чувствовал себя абсолютно нормальным человеком – дерзким парнем, который любит соревноваться с другими и нацелен на карьеру юриста или врача. Фактически я был согласен на любую работу, которая бы очень высоко оплачивалась».
Ведомый этой неясной целью, Даррен был уверен, что у него есть все необходимое для успеха, хотя люди считали его слишком агрессивным и даже заносчивым. Одноклассники позволяли ему делать то, что он хочет, совсем не потому, что он им нравился, а потому что он мог ударить или резко осадить любого, кто пытался ему возразить.
Даррен горько улыбается: «Я знаю, что был придурком, и мало что предвещало, что я смогу измениться».
Однако в его семье произошла трагедия. Его младший брат отправился в армию, попал на войну и не вернулся.
«Я поспешил домой, чтобы поддержать родителей, – рассказывает Даррен. – Я был опустошен, как будто оцепенел, и не мог даже плакать. Однажды к нашим дверям подъехали двое военных, они привезли медали за храбрость, которыми брата наградили посмертно. Мой отец с трудом выдавил из себя пару вежливых слов, а когда они уехали, открыл коробку и произнес: „Взгляни, за что умер твой брат“».
Возможно, особое значение имело то, что такое серьезное событие в жизни Даррена произошло, когда ему едва исполнилось двадцать лет, и его психика была еще гибкой и податливой. В период, когда личность каждого юноши находится в кризисе, он уже был далеко не в лучшей форме.
«Я начал себя ненавидеть – и это еще мягко сказано. Я много пил и играл в видеоигры до трех утра, но ничто не могло притупить чувство вины дольше, чем на несколько часов. Я должен был защитить своего младшего брата, а вместо этого едва обращал на него внимание. Каждую ночь я лежал без сна, размышляя, мог ли я отговорить его идти в армию, и однажды понял, что даже не знаю, зачем он вообще это сделал. У него не было других вариантов? У него был прилив патриотических чувств?»
В жизни Даррена начался период самопознания. Вместо того чтобы сразу поступить в юридическую или медицинскую школу, он взял академический отпуск и занялся домашними делами. Ему не удалось завести близких и прочных взаимоотношений ни с одной девушкой, и спустя год или два он вообще перестал ходить на свидания.
«Я кое-что понял тогда, – говорит он. – Если я не начну работать над собой, меня либо раздавит груз прошлых переживаний, либо я буду притворяться, что у меня все хорошо, – но что дальше?»
Читать дальше
![Дипак Чопра Сила внутри тебя [Как «перезагрузить» свою иммунную систему и сохранить здоровье на всю жизнь] [litres] обложка книги](/books/405248/dipak-chopra-sila-vnutri-tebya-kak-perezagruzit-cover.webp)