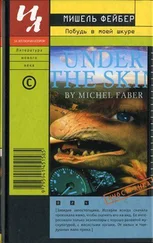— Разве что оставалось очень сильно изменить себя, чтобы стать именно тем, кем хочет видеть тебя другой человек.
Первый набросок «Распутья» Питер написал спустя два года после развода, пытаясь примириться с постигшей его потерей. Для него это было в первую очередь исцеляющей процедурой. Кроме того, он ходил на консультации к психологу и регулярно принимал ЛСД, эту «священную субстанцию». А еще участвовал в групповых встречах нудистов, которые собирались у кого-то на дому, скидывали с себя всю одежду и копались в жизни друг у друга. В какой-то момент эта группа исполнилась убеждения, что всё большая вовлеченность Питера в идею ненасилия напрямую связана с сублимацией его подавленного гнева. И они устроили эксперимент: принялись колоть его булавками в руки и ноги, шипя ему в уши разные ругательства, с тем чтобы его гнев вырвался наружу.
— Ничего у них не вышло, — просто сообщает он мне.
Поначалу Питер стал писать роман от первого лица, дабы придерживаться в нем открытого и непосредственного самоанализа. Отдельные события жизни он делал более значимыми и преувеличивал, передавая то напряжение, что он испытывал, их переживая, однако в целом все же правдиво изображал то, что произошло. На мой вопрос к Питеру, зачем он написал этот роман, он цитирует Ницше: «Память говорит: ты это сделал. Гордость — что этого не может быть. И память потихоньку ускользает на второй план». Питер не хотел позволить своей памяти отойти на второй план. Он не хотел, чтобы его гордость как-то переписала правду. «Ухватить бы все это покрепче, с самой максимальной прямотой, — говорил он себе тогда, — и изложить все разом, чтобы уж точно осталось в ловушке». Для него это был способ удержать мою мать, а значит, в реальной жизни он уже мог ее отпустить.
В конечном счете Питер перешел на изложение от третьего лица, надеясь, что некая дистанцированность позволит роману больше походить на произведение искусства. Однако потом решил, что третье лицо придает ощущение трусости и попытки уклониться от правды, и переделал все как было. Переписывал он книгу в живописных лесах Орегона, к западу от Сейлема, где помогал обустраивать коммуну. Он сидел за столом в общем рабочем кабинете в окружении детей и треугольных плиток, предназначавшихся для еще не законченного эллипсоидного купола дома, и пытался представить от первого лица мысли других персонажей, в особенности моей матери. Раз уж он черпал материал для романа из ее жизни, то считал своим долгом изложить и ее точку зрения.
Когда же я спрашиваю, не опасается ли он того, что его гнев неминуемо внесет свои краски в портрет моей мамы, Питер отвечает:
— Во мне не было гнева. Была лишь несказанная печаль.
* * *
Имя Шейла настолько чуждо моей матери, что порой в ее сознание закрадывается догадка, что со стороны Питера назвать ее таким образом есть своего рода акт агрессии. И мне это понятно: это имя кажется слишком притворным, слишком игривым, как будто оно принадлежит разбитной девахе в обрезанных шортах. Однако в романе героиня буквально сразила меня очень узнаваемым и с явным благоговением написанным портретом мамы. Как и у меня, видение Питером моей матери искажено и передернуто какой-то боготворящей любовью.
Шейла — мудрый и знающий человек, заботливый и в высшей степени внимательный к душевному настрою других людей, особенно когда они чем-то расстроены и их необходимо вытянуть из «панциря». Но в то же время она прекрасно отдает себе отчет, откуда эти настроения берутся. В какой-то момент она очень верно заключает, что Питер списывает свое скверное настроение на разочарование «авторитаризмом», в то время как на самом деле его просто раздражает то, что Шейла больше не обращает на него внимания. И этим Питер — как автор, уже годы спустя, — признаёт, что моя мать порой знала его даже лучше, нежели он сам себя.
Однако при всей своей чуткости к другим людям Шейла производит впечатление обезоруживающе самодостаточной натуры. Она постоянно ищет себе нового пространства. Вот откуда эта твердая решительная складочка в уголке ее губ. В определенном смысле Шейла — это как раз образ той женщины, которой я всегда мечтала быть. Скорее жаждущей возводить перед собой границы, чем пытающейся их развеять или преодолеть. И это качество Питер больше всего и любил в моей матери. Как сам он признаётся, они были «предельно близки, но никогда не сливались воедино». И это, в частности, позволило ей от него уйти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Мишель Филгейт О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим] обложка книги](/books/401476/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16-cover.webp)