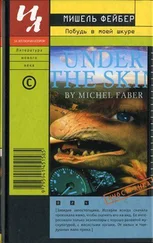— Да мы уже поняли, — отвечали друзья.
— Я тоже все прекрасно понимаю, — добавляла мать, ясно давая понять: «Оставь нас в покое и не встревай. У нас и так все хорошо».
Это я ничего не понимал.
Как-то раз, несколько лет назад, я, бегая трусцой в особенно холодный день, заглянул к маме — согреться, перевести дух, а заодно проведать, как она поживает. Она в это время смотрела телевизор. Я сел рядом с ней и принялся объяснять, что у меня не получится прийти вечером на ужин, потому что собираюсь встретиться с друзьями, но могу заглянуть к ней на следующий день — выпить нашего излюбленного скотча и вместе поужинать. Маме эта мысль понравилась. И что бы мне хотелось, чтобы она приготовила? Я предложил сделать запеканку из макарон с похрустывающей сырной корочкой. Мама сочла это отличной идеей.
Я забыл тогда снять с лица балаклаву, и на протяжении всего разговора мои губы были закрыты. Мама слушала меня, следя лишь за движением бровей.
В том новом мире, в котором моя матушка окончила свои дни, любой человек имел право на всеобщее уважение. Он имел равные с другими права, возможность жить с достоинством и в полной безопасности. Ей этот мир нравился гораздо больше, нежели Старый Свет. Однако он все-таки не был ее домом. Только теперь, когда я размышляю о языке, который Шекспир, скорее всего, назвал бы «неподатливым», я понимаю, что тоскую по его непосредственности, его тактильности, пришедшей из другой эпохи, когда главным связующим звеном было лицо, а не слова. И этим языком я обязан не книгам, что я читал или по которым учился, а матери, которая не слишком доверяла словам и не имела для них достаточного таланта или терпения.
Брат, не одолжишь ли мелочи?
(Сари Боттон)
— Хочешь такую вот блузочку?
Мама выносит блузу с анималистическим принтом, с еще висящим на ней ярлычком. Я бы ни за что такое не надела, и мать прекрасно это знает, но ей все равно очень хочется, чтобы я эту вещь забрала, приняла из ее рук.
— Я ее совсем недавно купила, но на тебе она, пожалуй, будет гораздо лучше.
— Нет, спасибо, мама, — отвечаю я, пытаясь скрыть раздражение и неловкость.
— У меня есть еще кофточка, которая тебе может понравиться, — вновь отправляется она к стенному шкафу. На сей раз возвращается с темно-синим зауженным лонгсливом из хлопка от Michael Stars, который я уже точно у нее хоть раз да брала надеть и который заметно припудрен тем снадобьем, что прописал матери дерматолог. — Эта тебе больше подходит.
Что верно, то верно.
— Но это твоя блузка, — пытаюсь я протестовать.
— Я могу купить другую, — настаивает мать. — Схожу еще разочек в «Блумингдейл». А то хочешь, пойдем вместе? Могу купить тебе там новую. Мне так хочется тебе что-нибудь купить.
Боюсь, ее сильно заденет, если я признаюсь, что какая-то часть моего существа отказывается верить в искренность ее подарков. Я боюсь, что за этим кроются какие-то условия и обязательства. Более того, я вижу в этом отступление от того, какой она учила меня быть, во что она сама раньше верила. А еще — если хорошенько, поглубже копнуть — я боюсь, что, стоит мне в этом признаться, как ее дары тут же иссякнут.
* * *
За десять лет до этого, приехав домой после первого курса в колледже, я сделалась воровкой.
Несколько раз в неделю я втихаря пробиралась в комнату своего сводного брата Джареда, который был на год старше и ужасно меня бесил, совала руку в его большущий круглый аквариум, наполненный грязными пятицентовиками, десятицентовиками и четвертаками, и умыкала оттуда где-то семьдесят пять центов или, бывало, доллар.
Я вовсе не считала это воровством. Это совсем не соответствовало моему давно установившемуся, бесспорному имиджу Примерной дочери. Себе я говорила, что просто одалживаюсь у брата, хотя и делала это без спросу. А еще — ни разу не пыталась вернуть взятое.
Иногда я расценивала это не как одалживание, а как своего рода репарацию. На внешне цивилизованном, но на самом деле жестоком поле битвы родительского развода я определенно проиграла больше всех. Получилось, что я обделена обоими родителями, которые в новых своих браках оказались супругами с наименьшими средствами, с наименьшим влиянием в семье и с наименьшей решимостью постоять за своих собственных детей.
Когда мне было двенадцать, отец вторично женился на вдове, которую бывший муж обеспечил наравне с обеими дочерьми солидными трастовыми фондами. Каждый год их бабушка — утонченная бостонская аристократка из евреев — с гордостью вручала мне ханукальную открытку, внутрь которой неизменно вкладывала новенькую, хрустящую долларовую купюру.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Мишель Филгейт О чем мы молчим с моей матерью [16 очень личных историй, которые знакомы многим] обложка книги](/books/401476/mishel-filgejt-o-chem-my-molchim-s-moej-materyu-16-cover.webp)