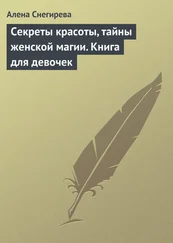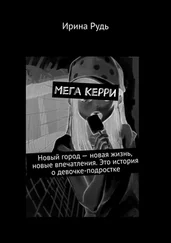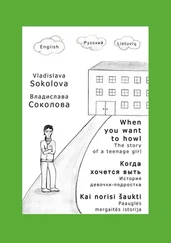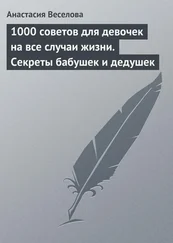В 1990-е я пришла на биеннале искусств в музее Уитни в Нью-Йорке и остановилась перед экспонатом «Семейная романтика». Четыре обнаженные фигурки в ряд – мама, папа, сын и дочь. Они были размером с маленькую куколку и выполнены из какого-то пористого крашеного материала, а волосы у них были натуральные. Все они были одинакового роста и в одной и той же фазе сексуальной зрелости. Я восприняла это художественное произведение как символ общественной жизни 1990-х. Словно мне хотели сказать: «Нет больше ни детства, ни взрослой жизни. Дети больше не чувствуют себя в безопасности, а взрослые не понимают, что делают».
Когда мы задумываемся о семьях 1990-х, многие все еще представляют себе традиционную семью, где отец работает, а мать сидит дома с детьми, по крайней мере пока они не пойдут в школу. В действительности лишь 14 % семей строились по таким принципам. Семейная демография кардинальным образом изменилась с 1970-х годов, когда насчитывалось менее 13 % семей, главой в которых был не состоящий в браке взрослый. В 1990-е в 30 % семей главой был одинокий, не состоящий в браке родитель. В 90 % семей с одним родителем их главой была мать.
Представителям нашей культуры еще предстоит осознать подлинное значение этой статистики. В 1990-е семья могла состоять из лесбиянок или геев, их биологических или приемных детей, четырнадцатилетней матери и ее малыша, живущих в городской квартире, из мужчины-гея и его сына, двоих зрелых взрослых, которые недавно поженились, и их детей-подростков от предыдущих браков, из бабушки, которая воспитывает маленьких внуков-близнецов, чья мать скончалась от СПИДа, приемной матери с метамфетаминовым малышом [17], это могла быть традиционная семья, где вместе живут несколько поколений, или чужие теперь люди, которые раньше любили друг друга. Какой бы ни была семья по составу, все они испытывали серьезнейшие трудности. Скорее всего, родители упорно работали, были обременены массой обязанностей, уставали или жили в бедности. А надеяться на помощь извне они не могли.
С деньгами у них были серьезные проблемы. Мы жили в обществе, в котором стремительно усиливалось социальное неравенство, когда одни дети жили в роскоши, носили одежду модных брендов, учились в частных школах и ездили в лагеря отдыха для избранных, а другие дети ходили по опасным улицам и учились в плохих школах.
В 1990-е годы было трудно следить за порядком. Маленькие дружные сообщества людей, где все помогали друг другу растить детей, стремительно уходили в прошлое. Вместо няни во многих домах у детей был телевизор.
Уважение американцев к независимости создало определенные трудности в семьях. Один мой друг-философ поинтересовался у меня в те годы: «Ты ведь гордишься своей дочерью? Из нее получается человек, совершенно не похожий ни на тебя, ни на твоего мужа. Это же лучший комплимент вам как родителям!» Когда я в ответ стала сожалеть, что мы с Сарой отдаляемся друг от друга, другая моя знакомая ответила: «Неужели ты хотела бы, чтобы все было по-другому?»
История нашей нации началась с Декларации прав и войны за независимость. Мы восхищаемся напористыми индивидуалистами, наши герои – исследователи, первопроходцы и сокрушители традиций. Мы уважаем писательницу Хэрриет Бичер-Стоу [18], защитницу прав темнокожих Соджорнер Трут, Розу Паркс, которая села на место для белых в автобусе и отказалась встать с него, Амелию Эрхарт [19]и женщину-судью Рут Бейдер Гинзбург.
Свобода, которая считается ценностью в нашей культуре, играет важную роль и в наших семьях. Американцы убеждены, что в подростковом возрасте дети эмоционально отдаляются от родителей, и это убеждение может запрограммировать будущее. Дочери 1990-х годов вели себя именно так, как от них ожидали, вот и получается, что раз от них ждали бунта – они и бунтовали. Они отдалялись от родителей, критиковали их действия, отвергали информацию, которая исходила от них, и секретничали.
Такого рода отчуждение создавало очень напряженную обстановку в семьях. Родители устанавливали границы, чтобы обеспечить безопасность дочерям, а они заявляли о своих правах и сопротивлялись родителям, которые, по мнению девушек, хотели заставить их оставаться детьми. Родители испытывали страх и сердились, когда их дочери шли на невероятный риск, чтобы доказать, что они уже независимые. У большинства семей это противостояние начиналось, когда девушки становились старшеклассницами.
Родители, которые выросли в другие времена, когда существовала иная система ценностей, очень страдали от того, что делали их дочери. Родители считали, что старались принести им больше пользы, чем их собственные мать и отец, но в результате их дети страдали гораздо больше. Когда сами родители были подростками, такое срабатывало. А сейчас у них ничего не получалось. Они видели, как их дочери начинают выпивать, рано знакомятся с сексом и восстают против родительской неадекватности. Свои семьи эти девушки считали неблагополучными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
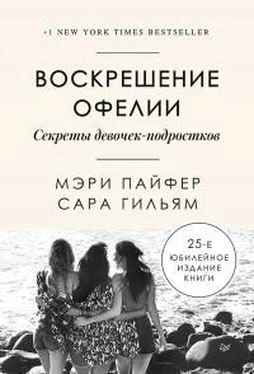

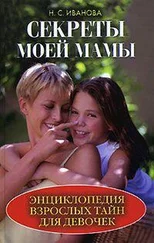

![Наталья Царенко - Принцессами не рождаются, или Секреты воспитания девочек [litres]](/books/396503/natalya-carenko-princessami-ne-rozhdayutsya-ili-sekr-thumb.webp)

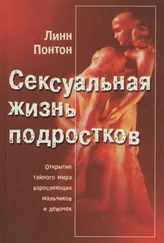
![Надежда Нелидова - Книги про девочек и их секреты [антология]](/books/429811/nadezhda-nelidova-knigi-pro-devochek-i-ih-sekrety-a-thumb.webp)