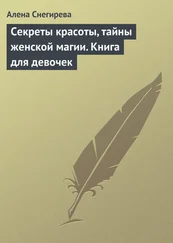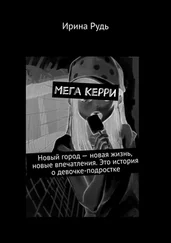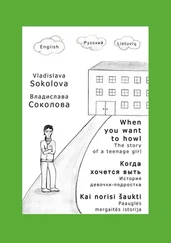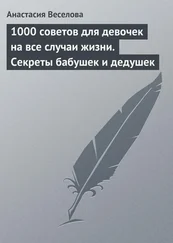Кайенна разволновалась и зарделась. Тим обнял ее и поцеловал в лоб. Они немного пошептались, а потом занялись любовью. Все остальные пары делали то же самое. Некоторые ушли в другие комнаты.
«Я знала, что все произойдет именно в этот вечер, – тихо сказала Кайенна. – Удивительно, до чего же быстро все случилось. Мы занялись сексом всего лишь через час после начала вечеринки».
В течение месяца после того вечера они с Тимом встречались. Разговаривали о школе, о музыке и о кино – никогда о сексе. Они жили в разных концах города и никак не могли договориться, как встретиться. Дважды они строили грандиозные планы, но ничего не вышло. Прошло какое-то время, и они оба нашли себе новые увлечения там, где учились, и их отношения тихо сошли на нет.
Я спросила ее, что она сейчас чувствует к Тиму. Кайенна в задумчивости потерла лоб: «Мне бы хотелось, чтобы все произошло более романтично».
Кайенна – моя типичная пациентка. У нее было довольно счастливое детство. Вступив в пубертатный период, она испытала замешательство, столкнувшись с трудностями и изменениями в жизни, по крайней мере на какое-то время. Она стала хуже учиться, забросила занятия спортом и больше не мечтала стать врачом. Постепенно утрачивая защищенность, которой была окружена в начальной школе, она погружалась в более сложный мир старшеклассников, и ее взаимоотношения с окружающими усложнились. Ей пришлось решать, как относиться к алкоголю или сексу. А после того, как занялась сексом с Тимом, она заразилась герпесом.
Когда я только начинала работать с такими девушками, как Кайенна, я сама была в растерянности. Моими преподавателями в 1970-е годы были мужчины-психологи. За исключением работ Кэрол Джиллиган, практически все теории подросткового возраста создавали мужчины, которые в основном проводили исследования с мальчиками.
Я обнаружила, что девушки находятся во власти сложных и глубоких чувств. Они ощущают, что кому-то что-то должны, и чувствуют отчуждение, они любят кого-то и приходят в ярость, они близки с кем-то и при этом держат дистанцию, и все это одновременно и по отношению к одним и тем же людям. Создавалось впечатление, что симптомы моих пациенток были обусловлены их возрастом и похожими жизненными ситуациями, в которых они оказались. Некоторые моменты, например обеспокоенность по поводу собственного веса, страх, что тебя отвергнут, и потребность в совершенстве, казались последствиями ожиданий общества от женщин, а не «патологией» каждой конкретной девушки. Они мучительно пытались разрешить проблемы, связанные со множеством противоречивых требований по отношению к себе: будь красивой, но не в красоте дело. Будь сексапильной, но не сексуальной. Будь откровенной, но не рань чувства окружающих. Будь независимой, но милой. Будь умной, но не настолько, чтобы распугать всех парней.
Девушки, приходившие ко мне на сеансы психотерапии, были воплощением всех тех проблем, которые ни мое образование, ни мой опыт не помогали мне разрешить. Когда я упрямо применяла к ним традиционные психотерапевтические методы, они не срабатывали. Девушки переставали приходить на прием или, что еще хуже, послушно появлялись, но болтали о том и о сем и не добивались никаких полезных для себя изменений. Я долго ломала голову над проблемами моих пациенток подросткового возраста. Я хотела так сформулировать их проблемы, чтобы это стало руководством к конкретным действиям с положительным результатом, и я пыталась связать их поверхностное поведение с их глубинными противоречиями. Помогли мне труды Алисы Миллер [12].
Миллер достигла вершин в понимании того, как личность утрачивает свою целостность. В книге «Драма одаренного ребенка» она описывает процесс утраты ее пациентами самих себя в раннем детстве. Она считает, что в детстве эти пациенты были вынуждены совершить сложный выбор: быть самими собой и быть честными или сделать так, чтобы их любили. Если они выбирали целостность, то родители от них отворачивались. Если они выбирали любовь, то теряли себя.
Родители ее пациентов внушали им в детстве, что мыслить, чувствовать и вести себя по-своему допустимо лишь в незначительной степени. Дети отказывались от того, что считалось недопустимым. Если злиться недопустимо, то они делали вид, что не злятся. Если сексуальность недопустима, они вели себя так, словно не испытывали сексуальных влечений. В детстве пациенты Миллер выбрали родительское одобрение и утратили себя. Они прекратили выражать неприемлемые чувства и вести себя неподобающе, по крайней мере в обществе взрослых. Они перестали делиться теми мыслями, которые не вызывали одобрения. Кто-то из тех, чье поведение считали неприемлемым, затаил эти чувства в себе и в конце концов зачах от недостатка внимания. А некоторые, кого не одобряли, стали проецировать эти чувства на других людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
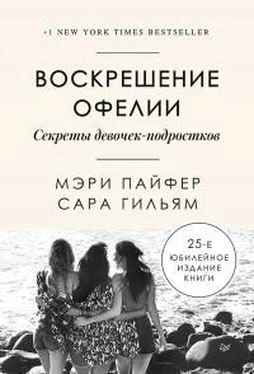

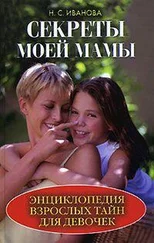

![Наталья Царенко - Принцессами не рождаются, или Секреты воспитания девочек [litres]](/books/396503/natalya-carenko-princessami-ne-rozhdayutsya-ili-sekr-thumb.webp)

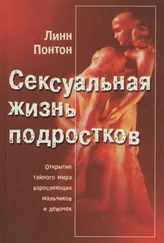
![Надежда Нелидова - Книги про девочек и их секреты [антология]](/books/429811/nadezhda-nelidova-knigi-pro-devochek-i-ih-sekrety-a-thumb.webp)