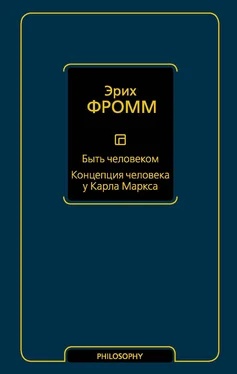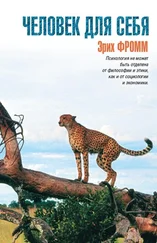Даже равенство заработной платы, как его требует Прудон, имело бы лишь тот результат, что оно превратило бы отношение нынешнего рабочего к его труду в отношение всех людей к труду. В этом случае общество мыслилось бы как абстрактный капиталист» [181].
Центральной темой для Маркса являлась задача трансформации отчужденного, бессмысленного труда в труд созидательный и свободный, а не повышение оплаты отчужденного труда при частном или «абстрактном» государственном капитализме.
Концепция активного, созидательного человека, который понимает окружающий мир и преобразует его своими силами, не может быть полноценно воспринята без понятия отчуждения, то есть отказа от созидания. Для Маркса история человечества – это история прогрессивного развития человека и одновременно всевозрастающего отчуждения. Его представление о социализме – это свобода от отчуждения, возвращение человека к самому себе, его самореализация.
Отчуждение (или отстраненность) означает для Маркса, что человек не ощущает себя активным деятелем по отношению к миру, что мир (природа, другие люди, он сам) остается ему чуждым. Объекты этого мира стоят над ним и отдельно от него, даже если созданы им самим. Отчуждение, по сути, означает пассивное восприятие и переживание мира, отношение к себе как субъекту, отделенному от объекта.
Сама концепция отчуждения впервые нашла свое выражение в западном мышлении благодаря содержащемуся в Ветхом Завете описанию идолопоклонства [182]. Главное в том, что пророки называли идолопоклонством, – это не поклонение человека многим богам вместо только одного, но то, что идолы – дело рук человека: они – вещи, и человек поклоняется вещам и почитает вещи, им самим изготовленные. Это приводит к тому, что он и сам превращается в вещь, передавая созданным им вещам какую-то часть самого себя. Вместо того чтобы ощущать себя творцом, он оказывается связан с самим собой только благодаря почитанию идола. Человек оказывается отчужденным от собственных жизненных сил, от богатства своих возможностей и соприкасается с собой лишь косвенно – подчиняясь застывшей в идоле жизни [183].
Мертвенность и пустота идола так выражена в Ветхом Завете: «Есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат». Чем больше своих сил человек передает идолу, тем беднее становится он сам и тем более зависим от идолов, так что они позволяют ему вернуть себе лишь малую часть тех сил, которые изначально принадлежали ему. Идол может стать фигурой, подобной богу: государство, церковь, личность, имущество. Идолопоклонство меняет свои объекты, ни в коем случае не ограничиваясь теми, которые имеют так называемое религиозное значение. Идолопоклонство – это всегда поклонение чему-то, во что человек вложил собственные творческие силы и чему отныне подчиняется вместо того, чтобы творчески проявлять себя в созидательной деятельности.
Среди множества форм отчуждения самая распространенная – это языковое отчуждение. Если я словами выражаю свое чувство, например, говорю «я тебя люблю», слово предназначено для указания на реальность, существующую во мне, на силу моей любви. Слово «люблю» используется как символ факта любви, но как только оно произнесено, оно проявляет тенденцию обрести собственную жизнь, становится реальностью. У меня возникает иллюзия того, что произнесение данного слова – эквивалент чувства, и скоро при произнесении слова я не испытываю ничего, кроме мысли о любви, которую это слово выражает. Отчуждение в языке показывает всю сложность проблемы отчуждения. Язык – одно из самых драгоценных достижений человечества; избежать отчуждения, отказавшись от говорения, было бы глупо – однако следует всегда помнить об опасности произнесенного слова: оно угрожает подменить собой живое переживание. То же самое верно и для всех других достижений человека: идей, искусства, любых созданных человеком предметов. Они – человеческие творения, ценная помощь в жизни, однако каждый из них одновременно – ловушка, искушение перепутать жизнь с вещью, переживание – с артефактом, чувство – с покорностью и подчинением.
Мыслители XVIII и XIX веков критиковали свои столетия за рост косности, пустоты, мертвенности. В философии Гёте краеугольным камнем, как и у Спинозы, Гегеля и Маркса, была концепция созидательности. «Божественное, – говорит Гёте, – проявляется лишь в живом, а не в мертвом; в становящемся и изменяющемся, а не в законченном и застывшем. Поэтому разум в своем стремлении к божественному имеет дело лишь со становящимся и живым, в то время как интеллект, когда стремится использовать его, имеет дело с законченным и застывшим» [184].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу