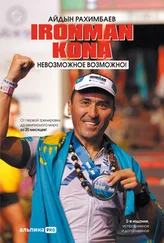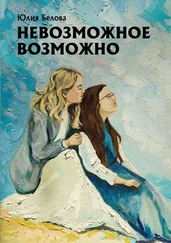Наиболее известным случаем синхронии в жизни самого Юнга было то, что произошло во время сеанса психотерапии с одной из его клиенток. Эта пациентка очень сильно сопротивлялась воздействию психотерапии, ей не нравилось, как Юнг интерпретировал результаты сессий, как и сама идея трансперсональных реальностей. Во время анализа одного из ее снов, характерной чертой которого являлся золотой скарабей, когда терапия зашла в тупик, Юнг услышал, как что-то стучит в оконное стекло. Он пошел посмотреть, в чем дело, и увидел на наружном подоконнике сияющего жука, пытающегося пробраться в комнату. Это был очень редкий вид жука, ближайший аналог золотого скарабея, который только можно найти на этой широте. Никогда прежде с Юнгом не происходило ничего подобного. Он открыл окно, перенес жука в комнату и показал недоверчивой клиентке. Это сверхъестественное совпадение стало важным поворотным пунктом в терапии той женщины.
Наблюдения за случаями синхронии оказало глубокое воздействие на образ мышления и работу самого Юнга, особенно на его понимание архетипов — фундаментальных управляющих и организующих принципов коллективного бессознательного. Открытие архетипов и их роли в человеческой психике представляет собой наиболее важный вклад Юнга в психологию. Большую часть своей профессиональной карьеры Юнг находился под сильным влиянием декартово-кантианской концепции, господствовавшей среди представителей западной науки, с четким разделением на объективное и субъективное, внутреннее и внешнее. Находясь под влиянием ее чар, он сначала видел архетипы как внеиндивидуальные, но, по сути, чрезвычайно внутрипсихические принципы, сравнимые с биологическими инстинктами. Он предполагал, что базовая матрица для них жестко впечатана в мозг и передается из поколения в поколение.
Существование синхронных событий заставило Юнга понять, что архетипы являлись сверхъестественными как для психики, так и для материального мира, и были самостоятельными паттернами значений, которые несут информацию и психике, и материи. Юнг увидел, что архетипы создают мост между внутренним и внешним, и предполагают существование сумеречной зоны между материей и сознанием. По этой причине Юнг начал предполагать наличие в архетипах «психоидных» (т. е. психоподобных) качеств. Штефан Холлер дал глубокому пониманию Юнгом архетипов ёмкое и поэтичное описание: «Проявление архетипа в случаях синхронии — потрясающий феномен, если не истинное волшебство: будто на пороге вашего дома появилось какое-то сверхъестественное существо. Сочетая в себе и физическую, и психическую природу, оно подобно двуликому богу Янусу. Два лица архетипа соединяются в одной голове смысла» (Холлер, 1994). Следом за публикацией эссе о синхронии, эта концепция становится все более важной для науки, и темой для многих статей и книг (например, фон Франц, 1980; Азиз, 1990; Мансфельд, 1995).
Я участвовал в исследованиях сознания более пятидесяти лет и был свидетелем большого количества необычных совпадений у моих клиентов, слышал множество историй о них от моих коллег-исследователей и психотерапевтов, и сам пережил несколько сотен подобных случаев. Для этой книги я отобрал из своей обширной коллекции несколько самых интересных историй. Самая первая немного похожа на историю Юнга с золотым жуком тем, что в ней тоже появляется насекомое, причем именно там и тогда, когда это наименее вероятно.
ПУТИ ЖИВОТНЫХ ЭНЕРГИЙ:
Молящийся богомол в Манхеттене
Во время одного из своих многочисленных семинаров в институте Эсален, Биг Сур, наш друг и учитель Джозеф Кемпбелл долго рассуждал о своей любимой теме — работе Карла Юнга и его революционном вкладе в понимание мифологии и психологии, и, во время лекции мимоходом упомянул феномен синхронии. Один из слушателей не был знаком с этим термином и, прервав Джо, попросил его объяснить, что такое синхрония. После краткого определения и описания концепции, Джо решил проиллюстрировать объяснение фактическим примером. Вместо того чтобы привести историю Юнга со скарабеем, он решил поделиться примером фантастического совпадения из своей собственной жизни.
Перед переездом на Гавайи, уже будучи достаточно пожилыми людьми, Джо и его жена Джин Эрдман жили в нью-йоркском районе Гринидж-Виллидж. Их комнаты находились на четырнадцатом этаже высотного дома на углу Уэйверли-Плейс и Шестой авеню. В кабинете Джо было две пары окон, одна из которых смотрела на реку Гудзон, другая — на Шестую авеню. Из одних открывался прелестный вид на реку и в хорошую погоду эти окна были всегда открыты. Вид из другой пары окон не представлял собой ничего интересного, и Кемпбеллы их почти не открывали. По словам Джо, они вряд ли открывали их чаще, чем два или три раза за все сорок с чем-то лет, которые прожили в этом доме.
Читать дальше



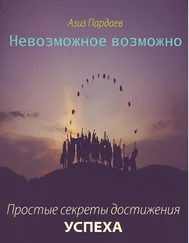
![Ольга Олие - Невозможное возможно... наверное [СИ]](/books/411355/olga-olie-nevozmozhnoe-vozmozhno-navernoe-si-thumb.webp)