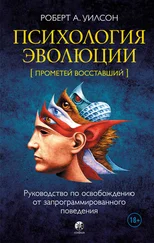Из-за семантического шума вас иногда даже могут принять за сумасшедшего, как это случилось с доктором Полом Уотцлавиком (он приводит этот пример в нескольких своих книгах). Доктор Уотцлавик впервые обратил внимание на эту психотомиметическую функцию семантического шума, когда прибыл на новую работу в одну психиатрическую больницу.
Он направился в кабинет главного психиатра, где в приемной за столом сидела женщина. Доктор Уотцлавик решил, что это секретарша босса.
— Я Уотцлавик, — объявил он, предполагая, что «секретарша» должна знать о том, что он должен прийти.
— А я вас так не называла, — ответила женщина.
Немного обескураженный, доктор Уотцлавик воскликнул:
— Но это я себя так называю!
— Тогда почему вы только что это отрицали? [1] . Поскольку при переводе с английского, похоже, в данном случае не удастся избежать семантического шума , приведем оригинальный диалог: I am Watzlavick. — I didn't say you were. — But I am. — Then why did you deny it? — Здесь и далее прим. перев., если не указано иначе.
В этот момент ситуация представилась доктору Уотцлавику в совершенно ином свете. Женщина была никакой не секретаршей. Он классифицировал ее как пациентку-шизофреничку, которая случайно забрела в помещения для персонала. Естественно, он стал «обращаться» с ней очень осторожно.
Его новое предположение кажется вполне логичным, не правда ли? Только поэты и шизофреники изъясняются на языке, который не поддается логическому анализу. Причем поэты, как правило, не используют этот язык в будничном разговоре, да еще так спокойно и непринужденно. Поэты произносят экстравагантные, но при этом изящные и ритмичные фразы — чего в данном случае не было.
Но интереснее всего то, что этой женщине сам доктор Уотцлавик показался явным шизофреником. Дело в том, что из-за шума она услышала совершенно другой диалог.
Странный человек подошел к ней и заявил: «I am not Slavic.» («Я не славянин»). Многие параноики начинают разговор с такого рода утверждений, которые для них имеют жизненно важное значение, но для остальных людей звучат несколько странно.
«А я вас так не называла», — ответила она, стараясь успокоить его.
«Но это я себя так называю!» — парировал странный человек и сразу же вырос в ее понимании от «параноика» до «параноидального шизофреника».
«Тогда почему вы только что это отрицали?» — резонно спросила женщина и начала «обращаться» с ним очень осторожно.
Каждый, кому приходилось разговаривать с шизофрениками, знает, как себя чувствуют оба участника подобного разговора. Общение с поэтами обычно не причиняет такого беспокойства.
В дальнейшем читатель заметит, что этот коммуникационный сбой имеет гораздо больше сходства со многими знаменитыми политическими, религиозными и научными дебатами, чем мы обычно догадываемся.
Пытаясь свести к минимуму семантический шум (и зная, что я не смогу совсем избежать его), я предлагаю вам своего рода исторический словарь, который не только объясняет используемый в этой книге «технический жаргон» из различных областей, но и, я надеюсь, показывает, что моя точка зрения не относится ни к одной из сторон в традиционных (доквантовых) дебатах, постоянно вызывающих разделение в академическом мире.
Экзистенциализмберет начало от Серена Кьеркегора. Для него это слово означало: 1) отказ от абстрактных терминов, столь любимых большинством западных философов; 2) предпочтение определительных слов и понятий в отношении конкретных индивидуумов и их конкретного выбора в реальных жизненных ситуациях; 3) новый хитроумный способ защиты христианства от нападок рационалистов.
Например, фраза «Правосудие — это когда люди стараются как можно точнее исполнять Волю Божию» содержит в себе как раз тот вид абстракции, который экзистенциалисты считают помпезной тарабарщиной. Кажется, что что-то сказано, но если вы попытаетесь рассудить какое-то конкретное дело, руководствуясь только этой фразой, то обнаружите, что она скорее вас запутывает, чем помогает вам. И вам захочется иметь нечто более практичное. Даже фраза «Правосудие в принципе может свершиться, когда суд искренне пытается мыслить непредубежденно» вряд ли удовлетворила бы экзистенциалиста. А вот предложение «Люди используют слово “правосудие” для обоснования оскорблений, которые они наносят друг другу» звучит уже вполне приемлемо для экзистенциалиста-ницшеанца.
Связь между Ницше и Кьеркегором остается исторической загадкой. Ницше жил позже Кьеркегора, но неизвестно, читал ли он его; сходство между ними может быть чистым совпадением. Экзистенциализм Ницше 1) подвергал нападкам поверхностные абстракции традиционной философии и многое из того, что приемлемо для «здравого смысла» (например, он отвергал такие термины, как «добро», «зло», «реальный мир» и даже «эго»); 2) предпочитал конкретный анализ ситуаций реальной жизни, но делал упор на волю там, где Кьеркегор придавал большее значение выбору; 3) скорее атаковал христианство, чем защищал его.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
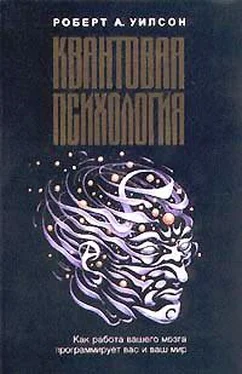
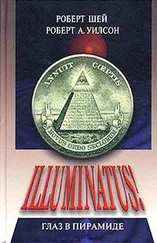
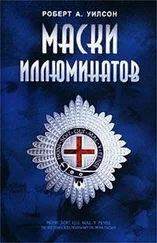
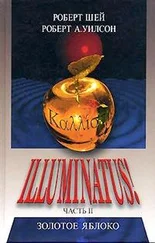
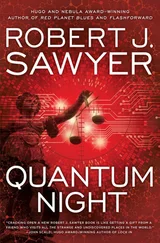

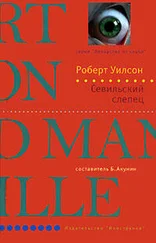
![Роберт Сойер - Квантовая ночь [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414453/robert-sojer-kvantovaya-noch-litres-s-optimizirova-thumb.webp)
![Роберт Сойер - Квантовая ночь [litres]](/books/414513/robert-sojer-kvantovaya-noch-litres-thumb.webp)