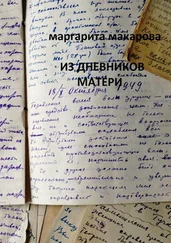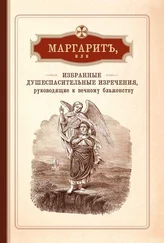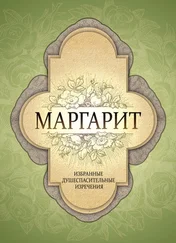1 ...6 7 8 10 11 12 ...43 И тогда нежный голос Мамы раздавался среди этого безумия и говорил мне: «Рене, моя маленькая Рене, не надо бояться, потому что у тебя есть Мама. Рене больше не одна. Мама здесь, чтобы защитить ее. Она сильнее всего, сильнее Света, Мама вытащит Рене из воды, и у нас все получится. Посмотри, какая мама сильная, посмотри, как она умеет защищать Рене, Рене больше нечего бояться». И она опускала свою легкую руку мне на голову и целовала меня в лоб. Ее голос, поглаживания, ее защита начинали проявлять свое волшебство. Постепенно странные фразы и насмешки исчезали, ирреальное восприятие комнаты уходило, потому что мои глаза были закрыты. Мне очень помогало то, что она говорила о себе и мне в третьем лице: «Мама» и «Рене», а не «я» и «вы». Когда же она случайно начинала говорить в первом лице, я тут же переставала узнавать ее и обижалась, что посредством этой ошибки она разрывала мою связь с ней. Если она говорила: « Вы увидите, как мы вместе будем бороться против Системы!», я переставала что-либо понимать: «я», «вы» — кто они такие? Для меня в них не было ничего реального. И наоборот, «Мама», «Рене» или «Маленький Персонаж» [3] Репрезентация, символ Рене. См.: La realisation symbolique. Berne: Hans Huber.
олицетворяли реальность, жизнь, эмоции.
Мне не удавалось объяснить Маме, что со мной происходит. Я полагала, что она все понимает сама. Я жаловалась на свои пугающие состояния с помощью слов «мне страшно», «соломинка в напряжении», «все отдельно», «вы превратились в лед», «холодно». И чудесным образом Мама угадывала ужас моей ситуации. Иногда я говорила: «Фразы преследуют меня, они издеваются надо мной». И Мама заставляла их уходить, говоря: «Рене должна слушать только голос Мамы, потому что лишь ее голос важен, голос Мамы так любит Рене». И тогда я слушала этот прекрасный голос, который как талисман хоть на мгновение мог вернуть мне реальность, контакт с жизнью. Успокоенная, но истощенная борьбой с тревогой, я начинала понемногу говорить о том, что заботило меня, интересовало. Но, увы, сеанс подходил к концу. Обогретая, ободренная, тихонечко повторяя Мамины слова, я уходила домой. И как только оказывалась на улице, сразу ощущала картонные декорации ирреальности. Однако, несмотря на это, я уже не страдала так, как в начале сеанса, потому что во мне еще оставалось немного Маминого тепла, ее слова были в моем сердце, и я больше не боролась, чтобы сломать ирреальность. Мне хватало сил выдержать свое восприятие, не пытаясь изменить его, потому что я не испытывала никакой необходимости входить в контакт c улицей, людьми, предметами так, как это было с Мамой.
Я была очень счастлива еще и потому, что к концу первого года анализа Мама изменила свою манеру работы. Вначале она анализировала все, что я говорила: мой страх, мою вину. Эти изыскания казались мне чем-то вроде обвинительной речи на суде. Это было, как если бы в поиске истоков чувств делать их еще более реальными и содержащими еще больше вины. Таким образом, когда она говорила мне: «Давайте посмотрим, в какие моменты вы чувствуете вину, откуда она» или что-то подобное, это означало для меня, что вина имела место, а Система существовала самым очевидным образом, иначе мы не искали бы следов ее деятельности. Я уходила с этих сеансов еще более несчастной, еще более виноватой, одинокой, лишенной какого-либо контакта, абсолютно одна в своей ирреальности.
Тогда как, если Мама садилась рядом со мной, говорила о нас в третьем лице и только констатировала факты без углубления в их причины, мне становилось намного легче! Ей одной удавалось пробить стену ирреальности, окружавшую меня, и вернуть мне хоть какой-то контакт с жизнью.
Глава шестая.
Система отдает приказы, и «вещи» начинают «существовать»!
Ирреальность выросла до такой степени, что даже Маме уже не удавалось установить хоть какой-то контакт между нами. С некоторых пор я в основном жаловалась на то, что вещи «мучали» меня, отчего я невероятно страдала. И вместе с тем эти вещи не делали ничего особенного, не нападали на меня, не разговаривали со мной. О том, что они «мучают» меня, заставляло говорить одно лишь их присутствие. Я воспринимала предметы настолько оторванными друг от друга, вычлененными из всего окружающего, отполированными, как образцы горных пород, ярко освещенными и напряженными, что они вызывали во мне огромный страх. Если я, к примеру, рассматривала стул или какой-то сосуд, я уже не думала об их применении, об их функции. Это больше не был сосуд, предназначенный для того, чтобы содержать в себе воду или молоко, и это не был стул, сделанный для того, чтобы на нем сидели. Нет! Все они теряли свое название, функцию, значение, становились всего лишь «вещами». И эти «вещи» начинали «существовать». И это их «существование» вызывало во мне огромный страх. В ирреальной декорации, в слепой тишине моего восприятия вдруг появлялась «вещь». Например, глиняный кувшин, расписанный голубыми цветами, был там, передо мной, насмехаясь надо мной своим присутствием, самим своим существованием. Чтобы было не так страшно, я отворачивала от него свой взгляд, но тогда взгляд натыкался на стул, затем на стол, которые тоже существовали и демонстрировали свое присутствие. Я пыталась избавиться от их господства, произнося их названия. Я говорила: «Стул», «Кувшин», «Стол», «Это стул». Но слова были оторваны от своих значений, они покидали предметы, отделялись от них настолько, что, с одной стороны, имела место «живая, издевающаяся надо мной вещь», а с другой — ее название, лишенное смысла, как конверт, из которого вытрясли содержимое. У меня никак не получалось их соединить, и я оставалась перед ними, переполненная страхом и ужасом. Тогда я начинала жаловаться: «Вещи мучают меня! Мне страшно!» Когда от меня требовались уточнения, мне задавали вопрос: «Этот кувшин, этот стол, вы их видите живыми?». Я отвечала:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу