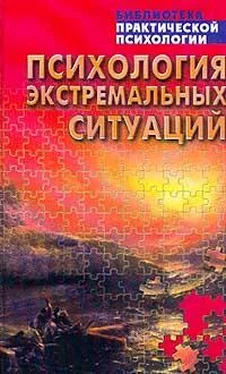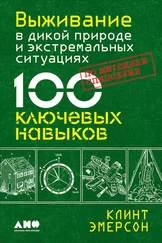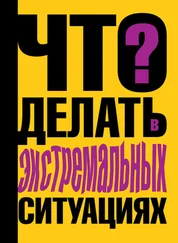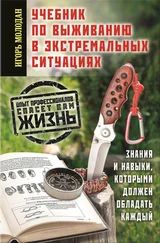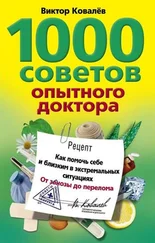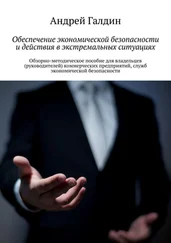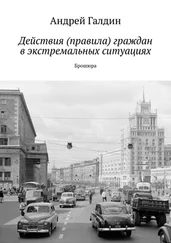У нас нет объективных методов измерения запасов адаптационной энергии, но, по всей видимости, имеется поверхностный, легкодоступный и восстановимый тип энергии и другой, скрытый глубже, который пополняет израсходованный поверхностный запас лишь после отдыха или переключения на другую деятельность. Это можно представить как взаимодействие двух систем удаления отходов. В биохимических терминах истощение – это накопление нежелательных побочных продуктов жизненно важных химических реакций. Многие отходы обмена веществ легко выводятся из организма, и первоначальное равновесие восстанавливается. Но бесчисленные биохимические процессы, необходимые для приспособления к требованиям жизни, приводят к образованию нерастворимых шлаков, которые засоряют механизм нашего тела, пока он полностью не выходит из строя.
Так называемые «пигменты старения» в клетках (особенно в клетках сердца и печени) очень старых людей – видимые под микроскопом нерастворимые осадки этого типа. Мощные отложения кальция в артериях, суставах, хрусталике глаза – другие побочные продукты, подтверждающие такое толкование процесса старения. Мы добивались в эксперименте отложения кальция у животных, чтобы вызвать их преждевременное старение.
Потеря эластичности соединительной ткани тоже, видимо, происходит из-за накопления нерастворимых шлаков, в которых макромолекулы белка соединены перекрестными связями. Эти процессы (чрезмерное разрастание плотной соединительной ткани и отложение нерастворимых веществ, например, кальция и холестерина) объясняют прогрессирующее затвердение стареющих кровеносных сосудов. По мере снижения эластичности артериальное давление должно расти, чтобы поддерживать ток крови через жесткие и суженные сосуды. Повышенное давление создает предрасположение к сердечно-сосудистым нарушениям, в частности, кровоизлияниям.
Другой механизм, приводящий к окончательному истощению адаптационной энергии в процессе старения, – нарастающий итог непрерывной потери мельчайших частиц невосстановимой ткани (мозга, сердца и т. д.) из-за повреждений или небольших сосудистых разрывов. У молодых эти дефекты легко компенсируются здоровой тканью, но в течение долгой жизни все тканевые резервы оказываются использованными. У пожилых потери замещаются рубцами из соединительной ткани. Они накладываются на «химические шрамы» – нагромождения обменных шлаков, которые, как сказано выше, не могут быть выведены из организма.
Успешная деятельность, какой бы она ни была напряженной, оставляет сравнительно мало рубцов. Она вызывает стресс и почти (или вовсе) не приводит к дистрессу. Наоборот, даже в преклонном возрасте она дает бодрящее ощущение молодости и силы. Работа изматывает человека главным образом удручающими неудачами. Многие выдающиеся труженики почти во всех областях деятельности прожили долгие жизни. Они преодолевали неизбежные неудачи, ибо перевес всегда был на стороне успеха. Вспомните такие имена, как Пабло Казальс, Уинстон Черчилль, Альберт Швейцер, Бернард Шоу, Генри Форд, Шарль де Голль, Бертран Рассел, Тициан, Вольтер, Микеланджело, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Артур Рубинштейн, Артуро Тосканини и – в близкой мне сфере медицинских исследований – лауреаты Нобелевской премии сэр Генри Дейл, И. П. Павлов, Альберт Сент-Дьердьи, Отто Леви, Зельман Ваксман, Отто Варбург. Все эти люди продолжали добиваться успехов – и, что еще важнее, были вполне счастливы, – когда им было за семьдесят, за восемьдесят и даже далеко за девяносто. Никто из них никогда не «трудился» в том смысле, что им не приходилось ради куска хлеба выполнять постылую работу. Несмотря на долгие годы напряженной деятельности, их жизнь была сплошным досугом, поскольку их занятия всегда были им по душе.
Конечно, лишь немногие принадлежат к этой категории творческой элиты. Поэтому успехи таких людей в преодолении стресса не могут служить основой для всеобщего кодекса поведения. Но вы можете долго и счастливо жить и трудиться на более скромном поприще, если выбрали подходящую для себя работу и успешно справляетесь с ней.
Поступив в возрасте восемнадцати лет на медицинский факультет, я был так захвачен изучением жизненных процессов и болезней, что просыпался в четыре часа утра и до шести вечера занимался в нашем саду с небольшими перерывами. Моя мать ничего не знала о биологическом стрессе, но помню, как она предостерегала, что такой режим нельзя выдержать дольше двух месяцев и что все это кончится нервным срывом. Теперь мне шестьдесят семь; я по-прежнему встаю в четыре или пять часов, работаю до шести вечера с небольшими перерывами и совершенно счастлив такой жизнью. Чтобы противодействовать возрастному физическому угасанию, я сделал себе единственное послабление: выделил час в день для поддержания тонуса мускулатуры – плаваю или в пять утра объезжаю на велосипеде вокруг университетского городка.
Читать дальше