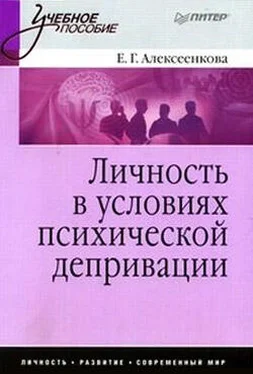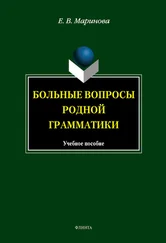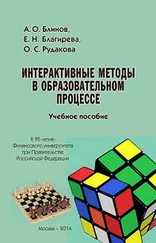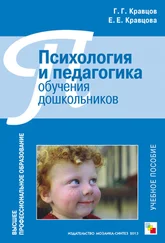1 ...7 8 9 11 12 13 ...38 В обычных условиях человек постоянно находится в социальном окружении, которое прямо или косвенно корректирует его поведение и деятельность. Когда же социальные коррекции перестают действовать на человека, он вынужден самостоятельно регулировать свою активность. С этим испытанием успешно справляются не все.
Другая причина – изменение значимости события, придание нового смысла фактам и явлениям (описано выше).
Изменение восприятия времени.В условиях сенсорной депривации зачастую нарушается оценка временных интервалов. Примеры этого представлены в результатах различных экспериментов.
В одном из таких экспериментов, в ситуации длительного одиночного пребывания в пещере, один из участников исследования при оценке прошедшего времени «отстал» на 25 суток за период 59 дней, другой – на 88 суток за период 181 день, третий – на 25 за 130 дней (он уже знал о возможных нарушениях оценки времени, поэтому сделал некоторые коррекции) [35].
Таким образом, большие интервалы времени люди, как правило, недооценивают.
Восприятие же малых интервалов может варьироваться. В разных экспериментах люди за 10-секундные принимали промежутки времени в 9, 8 и даже 7 секунд; в другом случае оценка интервала в 2 минуты занимала 3–4 минуты реального времени [11]. То есть наблюдалась как переоценка, так и недооценка временник отрезков.
Объяснение указанных феноменов может заключаться в следующем. Один из механизмов оценки интервалов времени – обращение к собственным физиологическим процессам. Исследователи обнаружили, что при исключении внешних временных ориентиров физиологические процессы вначале продолжают следовать 24-часовому суточному ритму. Но затем он нарушается. Человек может прийти, например, к 48-часовому или 28-часовому ритму. Но и они не являются устойчивыми. При этом часто появляется потребность в дневном сне. Физиологические процессы значительно рассогласовываются. Например, период сна перестает сопровождаться падением температуры тела, уменьшением частоты сердечных сокращений и т. д.
Таким образом, «внутренние биологические часы» во многом определяются «внешними» и не могут быть надежным ориентиром при оценке времени при отсутствии последних.
Нарушение биологического ритма связано с другими специфическими последствиями ситуации сенсорного голода: изменениями состояний сна и бодрствования.
Деятельность специалистов ряда профессий – летчиков, космонавтов, водителей, машинистов поездов и многих других – протекает в закрытых помещениях и кабинах. Естественно, поток раздражителей из внешней среды значительно ограничен. При этом имеет место не только сенсорная, но и двигательная депривация. Кроме того, помещения диспетчеров и кабины операторов обычно заполнены тихим гудением приборов. Неблагоприятное действие монотонной обстановки иногда усиливается еще и однообразными раздражениями вестибулярного аппарата – покачиванием, что способствует развитию гипнотических фаз и глубокого сна. Нередко аварии, происшедшие по вине водителей и машинистов, как раз связаны с потерей бдительности в результате гипнотических состояний.
«Ночь. Стюардесса через иллюминатор увидела луну, которая вскоре исчезла из поля зрения. Вдруг, к своему изумлению, она вновь видит луну, проплывающую за иллюминатором. Пока она пребывала в размышлениях, „что же это может быть?“, луна в третий раз показалась в иллюминаторе! Она вбежала в кабину пилотов и обнаружила… спящий в полном составе экипаж. В течение получаса самолет „DC-6“, летевший в Бахрейн, выполнял большие круги над Средиземным морем. Налицо было явное влияние монотонной обстановки, когда летчики следили только за показаниями приборов. Эта история произошла в 1955 г. С тех пор многое изменилось в авиации. Однако проблема сна летчиков за штурвалом осталась» [18, с. 177–178].
Есть данные также о том, что у полярников на арктических и антарктических станциях, у моряков во время продолжительных океанских походов, у людей, длительно работающих в темноте, весьма распространены бессонница, трудности засыпания и пробуждения [12; 18 и др.]
Подобные нарушения могут привести к утрате способности различать сон и бодрствование.
«Однажды… в поликлинику два милиционера привели испуганного, дрожащего человека. Он рассказал, что вел большой автобус. Сменщик не пришел, пассажиров было много, и его уговорили в суточный рейс ехать одному. При въезде в город на большой скорости он врезался в колонну солдат. От их крика он обезумел, выскочил из автобуса и спрятался. Милиционеры смущенно пожимали плечами и говорили, что никаких солдат автобус не давил. Шофер просто заснул и увидел во сне то, чего больше всего боялся» [18, с. 188].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу