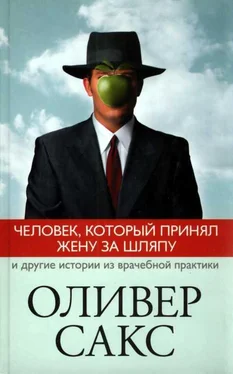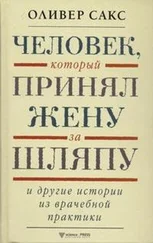Наша третья встреча произошла в клинике. На этот раз я пришел к нему сам, без предупреждения, и обнаружил его в приемном отделении. Раскачиваясь, закрыв лицо и глаза, он сидел в страшной, полной больных комнате отдыха — живая картина регрессии. Меня охватил ужас. После первых встреч, принимая желаемое за действительное, я поддался иллюзии скорого выздоровления, и мне потребовалось увидеть Хосе в состоянии резкого ухудшения и регрессии (позже оно не раз возвращалось), чтобы понять, что легкого «пробуждения» не будет и что впереди — опасный и рискованный путь. Что ждет его на этом пути? Ко всем моим надеждам примешивался теперь страх, ибо я наконец осознал, до какой степени Хосе сжился со своей тюрьмой.
Услышав мой голос, он тут же вскочил и радостно побежал за мной в комнату для рисования. Зная, что Хосе недолюбливает цветные мелки (только они и разрешались в отделении), я снова достал из кармана ручку.
— Помнишь ту рыбу, в прошлый раз? — спросил я и, не зная, понимает ли он мои слова, попытался очертить ее контур в воздухе. — Можешь опять нарисовать?
Он решительно кивнул и взял ручку.
«С тех пор прошло три недели, — думал я. — Вспомнит или нет?»
Хосе на мгновение закрыл глаза, как бы вызывая в памяти образ, и принялся задело. На листе бумаги опять появилась форель, вся в радужных пятнах, с острыми плавниками и раздвоенным хвостом, но на этот раз в ней отчетливо проступали человеческие черты. Поя вилась чудная ноздря (откуда у рыбы ноздри?) и пухлые губы. Я хотел уже забрать ручку, но он дал понять, что еще не закончил. Что еще он задумал? Оказалось, что он рисовал не отдельный образ, а целую сцену. Раньше рыба существовала сама по себе, как изолированное иконическое существо, — теперь же она стала частью окружающего мира, частью большего события. Хосе быстро дорисовал еще одну маленькую ныряющую рыбку — товарища, — и от рисунка тут же возникло ощущение плескучей, живой игры. Закончив, он очертил горизонтальную поверхность воды и вдруг завершил ее бурной, набегавшей на рыб волной. Рисуя волну, Хосе разволновался, и у него вырвался странный крик.

Я не мог отделаться от мысли, что рисунок символичен, хотя, возможно, это было слишком легковесное объяснение. Неужели большая и маленькая рыбы изображали меня и его? Важно было еще и то, что без всяких намеков и подсказок с моей стороны Хосе пришло в голову добавить новый элемент — взаимодействие, живую игру. Раньше в его рисунках, как и в его жизни, всякий контакт отсутствовал. Теперь же, пусть символически и зрительно, элемент общения проник в его мир. Можно ли было это проверить? И каков смысл сердитой, мстительной волны?
Я решил, что лучше оставить зыбкую почву свободных ассоциаций. В рисунке, безусловно, чувствовалась надежда и новые возможности, но они сопровождались отчетливым ощущением опасности. Нужно было вернуться к невинной надежности природы, оставив позади первородный грех человеческой близости.
На столе перед нами лежала рождественская открытка — малиновка на пеньке в окружении снега и темных ветвей. Я указал Хосе на птицу и дал авторучку.

Он рисовал тонкими, точными линиями, а птичью грудку закрасил красным. Лапки малиновки оканчивались вцепившимися в кору коготками (меня всегда поражало стремление Хосе подчеркивать хваткость, цепкость рук и лап — навязчивая потребность в надежном контакте). Но что это? Сухая зимняя ветка рядом с пнем вдруг разрослась, выпустила новые отростки и пышно расцвела. Возможно, в изображении имелись и другие детали, обладавшие символическим смыслом, но одно радостное превращение больше всего бросалось в глаза: зима сменилась на рисунке Хосе весной.
…Через некоторое время Хосе наконец начал говорить. Впрочем, для описания вырывавшихся у него странных, запинающихся, невнятных звуков едва ли годится слово «говорить». Звуки эти вначале пугали и нас, и его самого, так как все мы — и сам Хосе в первую очередь — считали, что он абсолютно и неисправимо нем. Причину этого видели в отсутствии у него и способности, и желания пользоваться речью. Чувствовалось, что в молчании Хосе помимо самого факта имелся еще и определенный внутренний выбор. В какой мере его молчание было связано с органическими нарушениями, а в какой — с мотивировкой, выяснить было невозможно.
Читать дальше