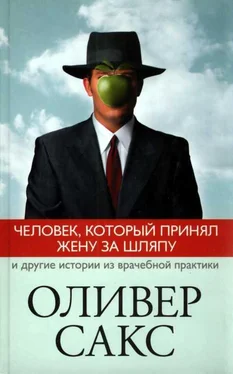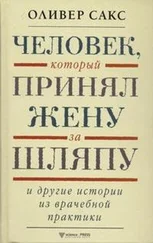А имелись ли вообще глубины в беспамятстве этого человека? Сохранились ли в его сознании хоть какие‑то островки настоящего чувства и мысли — или же оно полностью свелось к юмовской бессмыслице, к простой череде разрозненных впечатлений и событий?
Джимми догадывался и не догадывался о случившейся с ним трагедии, об утрате себя. (Потеряв ногу или глаз, человек знает об этом; потеряв личность, знать об этом невозможно, поскольку некому осознать потерю.) Именно поэтому все расспросы на рациональном, сознательном уровне были бесполезны.
В самом начале Джимми выразил изумление, что, чувствуя себя вполне здоровым, находится среди больных. Но помимо ощущения здоровья — что вообще он чувствовал? Это был человек замечательно крепкого сложения; его отличали животная сила и энергия, но вместе с тем странная инертность, пассивность и, как отмечали все, безразличие. Казалось, в нем чего‑то не хватает, хотя сам он если и осознавал это, то все с тем же странным безразличием. Однажды я задал Джимми вопрос не о прошлом и памяти, а о самом простом и элементарном ощущении:
— Как вы себя чувствуете?
— Как чувствую? — переспросил он, почесав в затылке. — Не то чтобы плохо — но и не так уж хорошо. Кажется, я вообще никак себя не чувствую.
— Тоска? — продолжал я спрашивать.
— Да не особо…
— Веселье, радость?
— Тоже не особо.
Я колебался, опасаясь зайти слишком далеко и наткнуться на скрытое, невыносимое отчаяние.
— Радуетесь не особо, — повторил я нерешительно. — А хоть какие‑нибудь чувства испытываете?
— Да вроде никаких.
— Но ощущение жизни по крайней мере имеется?
— Ощущение жизни? Тоже не очень. Я давно уже не чувствую, что живу.
На его лице отразилось бесконечное уныние и покорность судьбе.
Как‑то я заметил, что Джимми с удовольствием играет в настольные игры и головоломки. Они удерживали его внимание и, пусть ненадолго, давали ему ощущение соревнования и связи с другими людьми. Он явно нуждался в этом: никогда не жалуясь на одиночество, он выглядел ужасно одиноким, ни разу не посетовав на тоску, казалось, всегда тосковал. Помня об этом, я порекомендовал записать его в наши программы активного отдыха. Результат оказался несколько лучше, чем с дневником. Джимми на какое‑то время увлекся играми, но скоро остыл: решив все головоломки и не обнаружив достойных соперников для настольных игр, он снова угас. Беспокойство и раздражительность взяли свое, и он опять бесцельно слонялся по коридорам, испытывая теперь еще и чувство унижения: игры и головоломки годились для детей, этими глупыми уловками его не проведешь. Видно было, что ему чрезвычайно хотелось хоть что‑то делать: он стремился к действию, к бытию, к чувству — и не мог дотянуться. Он нуждался в смысле и цели — в том, что Фрейд называет Трудом и Любовью.
А не поручить ли ему какое‑нибудь несложное дело? — думали мы. Ведь, по словам брата, Джимми «совсем расклеился», когда в 1965 году перестал работать. У него были два ярко выраженных таланта — он знал азбуку Морзе и мог печатать вслепую. Мы, конечно, могли придумать, зачем нам нужен радист, но гораздо легче было занять Джимми в качестве машинистки. Требовалось только восстановить его навыки, и он мог взяться за дело. Это оказалось нетрудно, и вскоре Джимми уже вовсю стучал на машинке — печатать медленно он вообще не мог.
Наконец‑то он делал что‑то реальное, нашел применение своим способностям! И все же он всего лишь бил по клавишам — в этом не было ни характера, ни глубины. Вдобавок он печатал совершенно механически, не понимая содержания и не удерживая мысли; короткие предложения бежали из‑под его пальцев стремительной бессмысленной чередой.
Самый вид его непроизвольно наводил на мысли о духовной инвалидности, о безвозвратно погибшей душе. Возможно ли, чтобы болезнь полностью «обездушила» человека?
— Как вы считаете, есть у Джимми душа? — спросил я однажды наших сестер–монахинь.
Они рассердились на мой вопрос, но поняли, почему я его задаю.
— Понаблюдайте за ним в нашей церкви, — сказали они мне, — и тогда уж судите.
Я последовал их совету, и увиденное глубоко взволновало меня. Я разглядел в Джимми глубину и внимание, к которым до сих пор считал его неспособным. На моих глазах он опустился на колени, принял Святые Дары, и у меня не возникло ни малейшего сомнения в полноте и подлинности причастия, в совершенном согласии его духа с духом мессы. Он причащался тихо и истово, в благодатном спокойствии и глубокой сосредоточенности, полностью поглощенный и захваченный чувством. В тот момент не было и не могло быть никакого беспамятства, никакого синдрома Корсакова, — Джимми вышел из‑под власти испорченного физиологического механизма, избавился от бессмысленных сигналов и полустертых следов памяти и всем своим существом отдался действию, в котором чувство и смысл сливались в цельном, органическом и неразрывном единстве.
Читать дальше