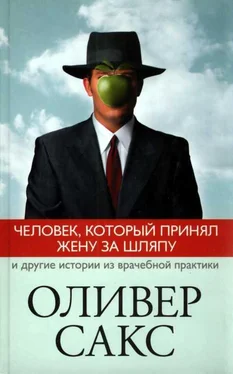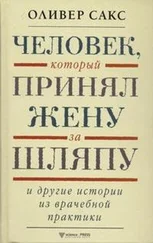Что же можно и нужно было сделать? «В этом случае, — писал мне Лурия, — нельзя дать никаких твердых рекомендаций. Делайте то, что подсказывает Ваша изобретательность и Ваше сердце. Восстановить память Джимми надежды почти нет, но человек состоит не только из памяти. У него есть еще чувства, воля, восприимчивость, мораль — все то, чем нейропсихология не занимается. И именно здесь, вне рамок безличной психологии, можно найти способ достучаться до него и помочь. Обстоятельства Вашей работы особенно способствуют этому. У Вас есть Приют, отдельный маленький мир, не похожий на клиники и другие медицинские учреждения, где приходится работать мне. С точки зрения нейропсихологии сделать почти ничего нельзя, но в области человека и человеческого, возможно, удастся многое».
Лурия упомянул также о пациенте по фамилии Кур., особым образом воспринимавшем свою болезнь. Безнадежность смешивалась у него со странным самообладанием. «На настоящее у меня нет никакой памяти, — говорил он. — Я не знаю, что я только что сделал, откуда я пришел… Прошлое я могу хорошо припоминать, а на настоящее у меня, собственно, нет никакой памяти». Когда его спрашивали, встречался ли он уже с проводившими обследование врачами, он отвечал: «Не могу сказать даили нет,ни утверждать, ни отрицать, что мы с вами виделись» [27] Лурия А. Р. Нейропсихология памяти. Т. 2. М: Педагогика, 1976. С. 110–111.
. Именно это происходило время от времени с Джимми. По нескольку месяцев проводя в госпиталях и больницах, Кур. обживал их, — точно так же и Джимми после нескольких месяцев в Приюте стал постепенно привыкать: научился находить дорогу, запомнил, где столовая, его собственная комната, лестницы, лифты. Он даже начал смутно узнавать некоторых работников персонала, хотя все время путал их с людьми из прошлого. К примеру, он полюбил одну из сестер и мгновенно узнавал ее голос и звук шагов. При этом он всегда настаивал, что они вместе учились в школе, и его изумляло, когда я говорил ей «сестра»;
— Черт возьми, — восклицал он, — чего не бывает! Ни за что бы не подумал, что ты, сестрица, в Бога уверуешь! [28] Речь идет о католических сестрах–монахинях, работавших в Приюте.
Попав в Приют в начале 1975 года, Джимми за девять лет так и не научился никого твердо узнавать. Единственный человек, с которым он действительно накоротке, это его брат, который часто приезжает к нему из Орегона. Встречи их исполнены неподдельного чувства и глубоко всех трогают. Только в эти минуты Джимми по–настоящему переживает. Он любит брата и узнает его, но не может понять, отчего тот выглядит таким пожилым. «Надо же, как некоторые быстро стареют», — жалуется он. На самом же деле брат его из тех, кто с годами почти не меняется, и выглядит он гораздо моложе своих лет. Между братьями возникает подлинное общение, и для Джимми это единственная нить, связывающая прошлое с настоящим, — но даже это общение не дает ему ощущения непрерывности времени и вытекающих одно из другого событий. Эти встречи — по крайней мере для брата и всех окружающих — только подтверждают, что Джимми, словно живое ископаемое, и по сей день существует в прошлом.
С самого начала все мы серьезно надеялись ему помочь. Он был настолько приятен в общении и дружелюбен, так умен и сообразителен, что трудно было поверить, что его уже не вернешь. Выяснилось, однако, что никто из нас никогда раньше не сталкивался со столь сильной амнезией. Мы даже представить себе не могли такой зияющей пропасти — такой глубокой бездны беспамятства, что в нее без следа могут кануть все переживания, все события — целый мир.
Впервые столкнувшись с Джимми, я предложил ему вести дневник, куда он мог бы ежедневно записывать все случившееся, а также свои мысли и воспоминания. Этот проект провалился — сперва оттого, что дневник постоянно терялся, так что в конце концов пришлось его к Джимми привязывать, а затем из‑за того, что автор дневника, хоть и заносил туда прилежно все, что мог, не узнавал предыдущих записей. Признав свой почерк и стиль, он неизменно поражался, что вообще что‑то записывал накануне.
Но даже искреннее изумление по большому счету оставляло его равнодушным, ибо мы имели дело с человеком, для которого «накануне» ничего не значило. Записи его были хаотичны и бессвязны и не могли дать ему никакого ощущения времени и непрерывности. Вдобавок они были банальны («яйца на завтрак», «футбол по телевизору») и никогда не обращались к более глубоким вещам.
Читать дальше