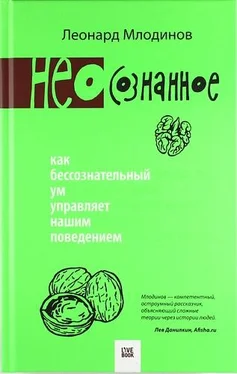Мы принимаем личные, финансовые и деловые решения в полной уверенности, что как следует учли все важные факторы, действуем в соответствии со своими оценками — и знаем, как пришли к тем или иным выводам. Но постигаем мы лишь осознанные нами влияния и поэтому владеем не всей информацией; в результате наши представления о себе, о наших мотивациях и обществе — паззл, в котором большая часть фрагментов утеряна. Мы как-то заполняем пробелы и строим догадки, но истинное положение дел куда сложнее и затейливее, чем нам по силам понять путем прямых расчетов сознательного рационального ума.
Мы воспринимаем, помним пережитое, выносим оценки, действуем — и все это под влиянием факторов, которых не осознаем. На страницах этой книги будет много других подтверждений этому выводу: я обрисую несколько различных проявлений бессознательной части мозга. Мы увидим, как наш мозг обрабатывает информацию на двух параллельных ярусах — осознанном и бессознательном, и тогда можно будет признать мощь бессознательного. Наш бессознательный ум активен, целеустремлен и независим. Сам он скрыт, а вот результаты его деятельности играют ключевую роль в формировании того, как наш сознательный ум воспринимает действительность и взаимодействует с ней.
Начнем мы экскурсию по скрытым пространствам ума с того, что рассмотрим особенности нашего восприятия чувственных стимулов и осознанные и бессознательные каналы, по которым мы усваиваем информацию о физической реальности.
Глава 2. Чувства плюс ум равно реальность
Глаз зрящий — не просто физический орган, а инструмент восприятия, настроенный в соответствии с традицией, в которой взращен его владелец.
Рут Бенедикт
[48] Рут Бенедикт (1887–1948) — американский антрополог, представитель этнопсихологического направления в антропологии. — Прим. перев.
Различение осознанного и бессознательного так или иначе бытовало с античных времен [49] Ran R. Hassin et al., eds., The New Unconscious (Oxford: The Oxford University Press, 2005), p. 3.
, а среди наиболее влиятельных мыслителей, копавшихся в психологии сознательного, был немецкий философ XVIII века Иммануил Кант. В его время психологии как самостоятельной дисциплины не существовало: так, собирательный термин, сподручный для философов и физиологов в рассуждениях о природе ума [50] …
. Их постулаты о мыслительных процессах человека были не научными законами, а лишь философскими утверждениями. Поскольку мыслителям для построения теорий не требовалось эмпирических оснований, всяк был волен отдавать предпочтения своей, а не чьей-то совершенно спекулятивной теории. Кантова сводилась к следующему: мы составляем картину мира творчески, а не документируем реальные события, и наши представления основаны не на том, что действительно существует, а скорее на том, что создано — и ограничено — наклонностями ума. Это убеждение удивительно близко современным представлениям, однако современные ученые шире смотрят на те самые наклонности ума, особенно с учетом предрасположенностей, возникающих из наших нужд, устремлений, верований и предыдущего опыта. В наши дни принято считать, что образ тещи складывается не только из ее оптически наблюдаемых параметров, но и из того, что по ее поводу происходит у нас в голове, — например, из соображений о ее причудливых педагогических привычках или мыслей о том, стоило ли селиться с ней по соседству.
Кант считал, что эмпирическая психология не может стать наукой, потому что невозможно взвесить или любым иным образом измерить происходящее в человеческом мозге. Однако в XIX веке ученые все же рискнули. Одним из первых практикующих психологов стал Э. Г. Вебер — в 1834 году он поставил простой эксперимент с тактильностью: поочередно разместил небольшие фиксированные веса на теле испытуемого и попросил его оценить, какой груз был тяжелее — первый или второй? [51] Donald Freedheim, Handbook of Psychology , vol. 1 (Hoboken: Wiley, 2003). p. 2.
Вебер заметил интересную закономерность: наименьшая разница в весе грузов, которую мог определить испытуемый, оказалась пропорциональна величине самих весов. Например, если вы едва смогли почувствовать, что шестиграммовый груз тяжелее пятиграммового, минимальной определяемой разницей будет один грамм. Но если взять исходные веса в десять раз тяжелее, минимальная определяемая разница, оказывается, тоже возрастает в десять раз — т. е. в данном случае это будет десять граммов. Ничего сверхъестественно потрясающего в этом результате нет, но он дал толчок развитию психологии: экспериментальным путем можно изучать математические и научные законы ментальной деятельности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу