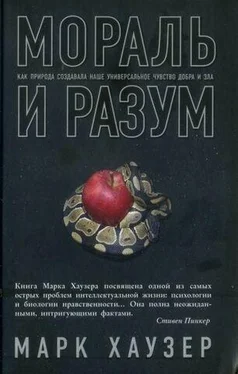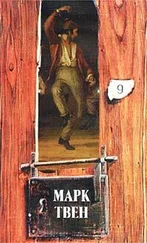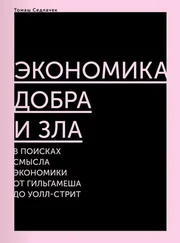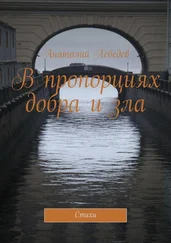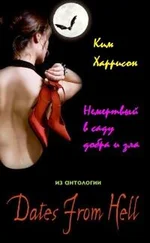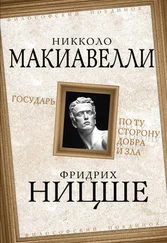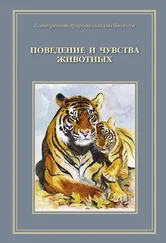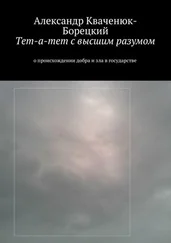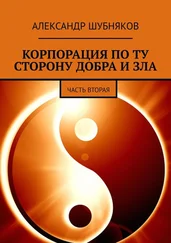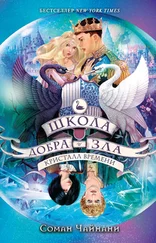Можно сказать, что мы унаследовали ряд способностей от наших предков-приматов. Мы используем многие из них как в моральных, так и в лишенных морального аспекта ситуациях. Оказывается, однако, что те способности, которые развивались исключительно внутри нашего вида, возможно, сыграли поворотную роль в нашей способности поддерживать самое широкое взаимодействие с неродственными особями. Одно из наиболее полных объяснений этого последнего эволюционного достижения принадлежит биологам Роберту Бойду и Питеру Ричерсону. Они отталкиваются от одного из первых предположений Дарвина об эволюции морали. Вспомним, что он приводил доводы в пользу того, что одна группа приобретает больший и более устойчивый набор моральных норм, чем другая группа, обеспечивая преимущество в межгрупповой конкуренции. В этом смысле Дарвин объяснял эволюцию морали, обращаясь к групповому отбору. Бойд и Ричерсон используют этот аргумент, но дополняют его более сложными математическими моделями, экспериментальными данными и межкультурными наблюдениями.
Прежде всего следует отметить, что люди, в отличие от любых животных, демонстрируют более выраженные межгрупповые различия. Близкие группы могут иметь разные языки, брачно-семейные принципы, правила наказания, предпочтения в одежде, наконец, представления о сверхъестественном и о том, что нас ждет в будущем. У животных соседние группы редко испытывают симпатию друг к другу, но различия между ними незначительные. Даже в случаях, когда противоположные группы географически удалены друг от друга, отличия все равно остаются несущественными.
В совместном проекте, который осуществляли специалисты по приматам (они изучали шимпанзе, живущих в Восточной и Западной Африке), было установлено несколько десятков социальных обычаев. Большинство из них касалось технологий добывания пищи и орудий труда: некоторые популяции шимпанзе пользовались камнями, чтобы колоть орехи, а другие использовали палочки, чтобы вытаскивать термитов. Реже наблюдатели отмечали различия в методах ухода за поверхностью тела и в нескольких других социальных действиях. И антрополог Давид Примак, и я установили, что эти различия не оказывают большого эмоционального влияния на жизнь шимпанзе. Если бы небольшая группа шимпанзе решила не обниматься, выполняя груминг, или предпочла вытаскивать термитов лапой, а не палочкой, члены группы не отлучили бы их от своего коллектива. В этом смысле различия, которые мы наблюдали у разных групп шимпанзе, больше похожи на различия между странами, где используют правоили левостороннее движение транспорта, чем на различия между тутси и хуту из Руанды, между ирландпем-католиком и ирландцем-протестантом, между северянином и южанином во времена гражданской войны в США. В рамках своей культуры мы, конечно, хотим, чтобы все ездили по установленной стороне дороги, и штрафуем тех, кто нарушает правила движения. Но автомобильные привычки населения можно изменить, что и продемонстрировало правительство Швеции в 1970-е годы. Вряд ли такое принуждение можно рассматривать как повод к идеологическим переменам. Шведы остались шведами и после того, как они изменили правила дорожного движения, что, впрочем, никак не повлияло на снижение числа аварий на дорогах. А теперь попробуйте сказать шведам, чтобы они заменили своих лютеранских священников ортодоксальными раввинами! Вероятнее всего, в этой исторически мирной стране не только начались бы военные действия, но и переход был бы медленным, тяжелым и эмоционально болезненным.
Слабо выраженная межгрупповая вариативность животных, наряду с относительно высоким уровнем миграции, фактически исключает возможность группового отбора. В отличие от этого, значительная вариативность, которая существует между различными группами людей, создает возможность для группового отбора.
Кроме межгрупповых различий, существуют два механизма, которые также способствуют повышению однородности внутри группы, — это подражание и склонность к конформизму. Хотя шимпанзе и, возможно, некоторые другие животные могут успешно соперничать с человеком по своей способности к подражанию, у людей подражание имеет специфические черты, по крайней мере их три. Во-первых, подражание у человека характеризуется ранним рефлексивным возникновением в процессе развития, во-вторых, независимостью от конкретной сенсорной модальности и, в-третьих, тесной связью с психическим состоянием других людей, включая их намерения и цели. Подражание, наряду с нашей способностью обучать и передавать точную информацию, делает возможным очень точное копирование, воспроизведение наблюдаемого. Подражание создает условия для психологического единообразия внутри группы, внося свой вклад в формирование межгрупповых различий. Кроме этих механизмов, есть еще склонность к конформизму — стремление делать то же, что и другие члены группы, и оставлять несогласие маргиналам.
Читать дальше