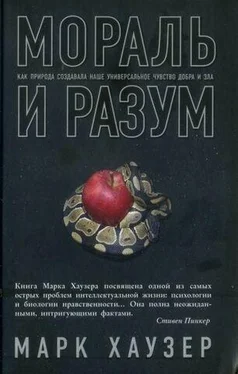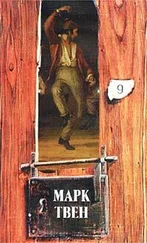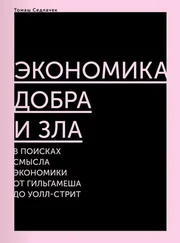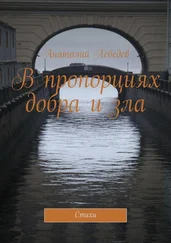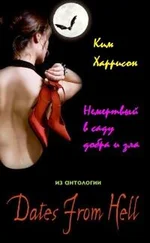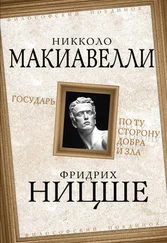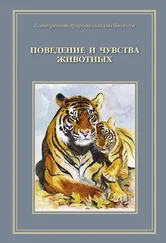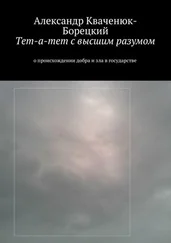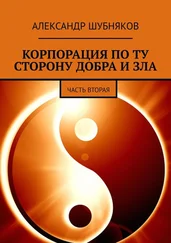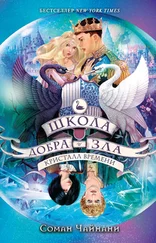Если мы совершаем операцию исключения, избавляясь от тех характеристик нашей моральной психологии, которые есть и у животных, у нас остается набор характеристик, которые присущи только человеку: определенные, интуитивно складывающиеся представления, моральные эмоции, сдерживающий контроль и наказание лжецов. Вероятно, есть и другие аспекты, а некоторые из тех, что остаются после операции исключения, возможно, у животных более развиты, чем считается в настоящее время. Если я что-то и узнал, наблюдая за животными и изучая их, а также читая об их поведении в работах моих коллег, то это следующее: представления об уникальности человека часто исчезают прежде, чем они успеют просуществовать хоть какое-то время. Представьте себе предлагаемый набор несовпадающих способностей как временный список. Но будем также иметь в виду, что какието типичные для человека характеристики все-таки останутся.
Я предупреждал в начале III части о том, что те, кто ждет ответа на вопрос, есть ли у животных мораль, останутся неудовлетворенными. У меня нет ответа, потому что вопрос плохо сформулирован: ответ зависит от того, что представляется кому-либо наиболее интересным или важным в обсуждении морали. Вместо ответа я опять воспользуюсь лингвистической аналогией и задам конкретные вопросы о нашей моральной способности, включая вопросы о ее структурных компонентах, о том, как они развиваются и, что наиболее существенно, как они эволюционировали. Некоторые ее элементы есть и у животных, а некоторые присущи только человеку. Можно ли, следовательно, сделать вывод, как это сделал Дарвин, о том, что «абсолютно любое животное, наделенное хорошо выраженными социальными инстинктами, включая родительские и сыновние привязанности, неизбежно приобретает моральное чувство, или совесть, коль скоро его интеллектуальные способности стали такими же (или почти такими же) развитыми, как у человека»? Мы, конечно, можем сделать такой вывод, но он оставляет без ответа самое важное: какие же это его интеллектуальные способности? Именно они склоняют чашу весов и побуждают нас воспользоваться другим средством оценки.
Один ответ связан с различием, которое часто используется в юридических спорах: это различие между моральным субъектом и моральным «пациентом». Хотя о нем много написано, в особенности с учетом его ключевого места в дебатах о юридической защите детей, взрослых, имеющих психические недостатки, и животных, мы можем свести все подробности к одному пункту: понимает и уважает ли некто чужие права и берет ли на себя ответственность за свои поступки? Если ответ положительный, тогда индивидуум является моральным субъектом. Если ответ отрицательный, но индивидуум может испытывать страдания, тогда она или он является моральным «пациентом»; моральные субъекты в какой-то степени несут ответственность за благоденствие моральных «пациентов».
Когда философы, биологи и психологи объединили усилия, чтобы распространить действие Билля о правах на таких человекообразных обезьян, как орангутанги, гориллы, карликовые обезьяны и шимпанзе, им пришлось доказывать, что эти животные должны иметь определенные базовые права, при этом ученые признавали, что еще кто-то должен защищать эти права. Им пришлось включить человекообразных обезьян в категорию моральных «пациентов». Это представляется вполне разумным, хотя многие утверждают, что у такой классификации сложная структура, в частности, неясно, куда следует включить животных из зоопарков, почему мы должны ограничиваться человекообразными обезьянами, почему рассматриваются только конкретные права и что нам следует делать, если любое из этих животных совершит преступление, например убьет человека?
Реальная проблема, связанная с делением на моральных субъектов и моральных «пациентов», заключается в том, что оно зависит от теста, который еще никто не ввел: как вы определяете, понимают ли и уважают ли животные чужие права и несут ли ответственность за свои поступки? Что касается уважения, то на эту часть вопроса ответить легче, так как мы можем посмотреть, следуют ли индивиды определенным принципам: толерантное отношение к чужой собственности, нанесение вреда и оказание помощи другим в конкретных ситуациях, обусловленных социальными нормами. Но остается неясным, как проводить проверку понимания. Также неизвестно, как определить, понимают ли они, что это значит — принять на себя ответственность. Одно дело, когда животные заботятся о тех, кто нуждается в такой заботе. Совершенно другое дело — ощущать бремя долга, осознавать последствия нарушения обязательств об оказании помощи. Причина, по которой я подробно останавливаюсь здесь на этом различии, заключается в том, что для многих ученых, которые пишут о нашем моральном чувстве, и в частности о нашем чувстве справедливости, совместные действия животных являются всего лишь согласованными элементами социального поведения. В них нет эксплицитно выраженного указания на причину возникновения правил взаимодействия, на причину необходимости их признания и строгого соблюдения на групповом уровне. При обсуждении такого ведущего принципа справедливости, как честность, Ролз прямо пишет об этом: «Социальное взаимодействие от социально согласованной активности отличает, например, то, что активность координируется приказами, которые отдает неограниченная центральная власть. А социальное взаимодействие скорее регулируется общественно признанными правилами и процедурами, которые принимаются как приемлемые для регулирования поведения каждого человека теми, кто участвует в этом взаимодействии» [385] Rawls, 2001, р. 6.
.
Читать дальше