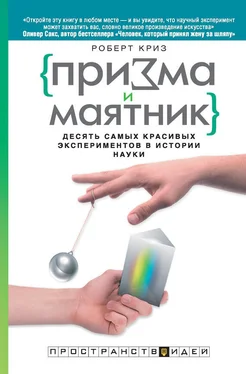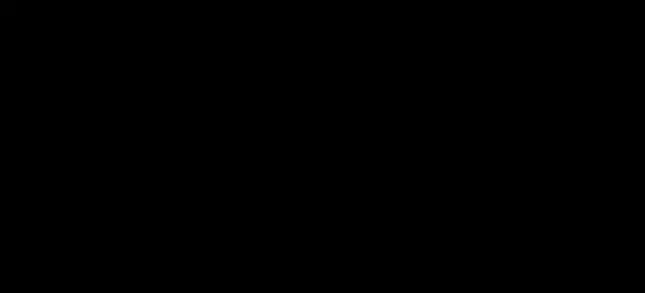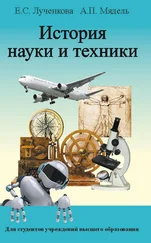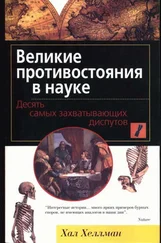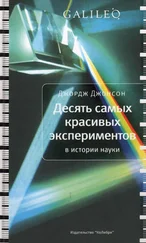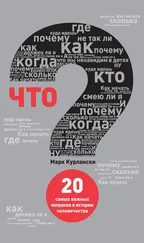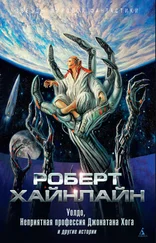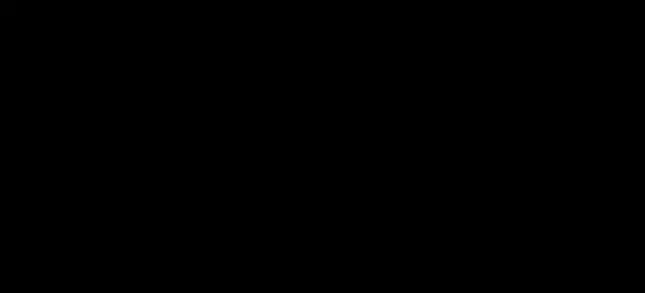
Рис. 7.Схема установки Томаса Сеттла, с помощью которой он пытался воспроизвести эксперимент Галилея с наклонной плоскостью
В 1970-е годы Стиллман Дрейк, исследователь научного творчества Галилея, в очередной раз решил проверить основательность этой точки зрения. Внимательно изучая рукописи, в изобилии сохранившиеся в архиве ученого, Дрейк смог идентифицировать те из них, которые относились к методике проведения эксперимента, и в конце концов сделал вывод, что Галилей действительно использовал наклонные плоскости, однако время он измерял способом, основанным на его превосходном музыкальном образовании. Умелый лютнист, Галилей великолепно чувствовал ритм. Хороший музыкант способен без особого труда отсчитать ритм не хуже точных часов. Дрейк решил, что Галилей установил на пути скатывания шара по наклонной плоскости поперечные порожки из жил – подобные тем, что использовались в старинных струнных щипковых инструментах для разделения грифа на лады. Когда шар катился по желобу и подскакивал на порожке, раздавался явственно слышный щелчок. Галилей, по мнению Дрейка, разместил порожки таким образом, что равномерно следующие друг за другом щелчки воспроизводили темп, типичный для вокального произведения той поры, составляющий 108 ударов в минуту. Стоило Галилею определить на слух точные временные интервалы, как ему осталось лишь измерить расстояние между порожками. Оно равномерно увеличивалось по мере того, как шар набирал скорость, в прогрессии 1, 3, 5… что позволило ученому в дальнейшем разработать более сложный эксперимент, который был описан в «Беседах и математических доказательствах» и который воспроизвел Сеттл 42. Короче говоря, Галилей на самом деле был весьма искусным и тонким экспериментатором.
* * *
Эксперимент Галилея с наклонной плоскостью, как и все другие описанные здесь опыты, отличается своей особой красотой. В нем отсутствует широта эксперимента Эратосфена, в котором явления космического масштаба воплощаются в крошечной тени. Нет в нем и потрясающей простоты опыта на Пизанской башне, где столкновение двух различных моделей мира воплощено в демонстрации, понятной любому. И, конечно же, красота эксперимента с наклонной плоскостью не сводится к открытому Галилеем математическому закону прямолинейного равноускоренного движения, так же, как красота полотен Моне и Сезанна не сводится к красоте изображенных на них стогов сена и гор.
Эксперимент Галилея с наклонной плоскостью обязан своей красотой тому, что можно было бы назвать «созданием образа». Его красота заключается в том удивительном способе, посредством которого относительно примитивное оборудование заставляет проявиться один из наиболее фундаментальных принципов физического мира. Он открывается нам в том, что поначалу представляется не более чем последовательностью случайных и хаотических событий – скатывания шаров по наклонной плоскости. Именно так закон впервые открылся Галилею, и именно так начинают его объяснение современным учащимся.
Вот что написал мне один из моих респондентов о собственных попытках воспроизвести эксперименты Галилея:
«Самое прекрасное заключалось не в понимании того, что сила тяжести составляет 9,8 м/с2, но в убедительной демонстрации нам того, что очень простым способом и с помощью самого простого оборудования мы можем с достаточной точностью измерить наиболее важные физические величины».
Интерлюдия
Сравнение Ньютона – Бетховена
Как-то Вернер Гейзенберг, закончив исполнение фортепианной сонаты Бетховена в кругу друзей, сказал, обращаясь к восхищенной аудитории: «Если бы меня не было, скорее всего, кто-нибудь другой сформулировал бы принцип неопределенности. Если бы не было Бетховена, никто бы не написал Тридцать вторую сонату» 43.
Историк науки Бернард Коэн приводит замечание, приписываемое Эйнштейну: «Если бы не было Ньютона или Лейбница, все равно кто-нибудь изобрел бы дифференциальное исчисление, но, если бы не было Бетховена, у нас никогда бы не появилась Пятая симфония» 44.
«Сравнение Ньютона – Бетховена», как его часто называют, довольно элегантным способом характеризует соотношение между естественными науками и искусством, из которого можно сделать интересные выводы относительно возможности существования красоты в науке. Традиционные аргументы противопоставляют науку и искусство друг другу, исходя из того, что научные открытия рано или поздно обязательно будут сделаны, чего нельзя сказать о произведениях искусства: им подобная неизбежность несвойственна. Источником данных аргументов служит убежденность в том, что структура мира, исследуемого наукой, заранее задана и задача ученых состоит в ее раскрытии. Социологи науки именуют такой подход «заполнением картины». Воображение, творческие способности, интересы правительств, социальные факторы могут так или иначе воздействовать на временны́е характеристики этого процесса – с какой скоростью и в каком порядке будут заполняться части картинки, – но они никак не могут изменить саму ее структуру. От художника, напротив, в полной мере зависит структура его творения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу