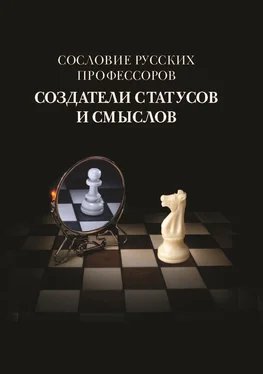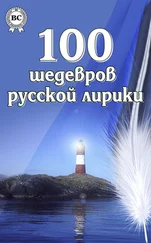Подобные эпизоды, на мой взгляд, важны не только для понимания обстоятельств выработки норм университетского сообщества. Примечательно, что университетские документы (в данном случае протоколы заседаний) стали использоваться как форма фиксации требований. Это подтверждают размышления Мишеля де Серто о повседневных «стратегиях власти» и разнообразии тактик сопротивления им [261]. Их появление в университетской конференции было явным следствием адаптации бюрократического опыта и его использования в корпоративных интересах. Осознание специфики своей деятельности, ответственность и самодостаточность становятся проявлениями автономного мышления профессоров. Они порождали определенный баланс сил, необходимый в условиях слабости университетской автономии.
Итак, можно констатировать: существовавшая в XVIII в. практика ведения университетского делопроизводства породила полидискурсивный источниковый комплекс. Предназначенные для чтения куратора протоколы включали в себя разнородные тексты, были продуктом разных технологий письма – произвольного описания прошедшего заседания, центонных рассуждений, отчетов о проделанной работе. Само предназначение делало его своего рода коллективной репрезентацией, а перформативный характер источника предполагал определенный отбор свидетельств. Некритическое же использование историками этих материалов в итоге обеспечивает воспроизведение в университетских исследованиях коллективной мифологии профессоров XVIII в.
Я надеюсь, что изучение технологий университетского делопроизводства и фронтальное прочтение всего «снегиревского собрания» без купюр в сочетании с изучением иных источников позволят выйти из шевырёвского видения университетского прошлого и отказаться от практики иллюстративного использования документов. Посредством аналитических процедур работы с документальными понятиями мы можем выявить синхронные смыслы и латентные значения исследуемой эпохи, ощутить неспешный ритм и особый эмоциональный строй университетской повседневности, понять психологию московского профессора, распутать сложную паутину его социальных коммуникаций, родственных и научных связей, а заодно убедиться в необходимости жесткой рефлексии над исследовательскими процедурами историка.
А.Е. Иванов, И.П. Кулакова
Ипостаси русского профессора: социальные высказывания рубежа XIX–XX вв. [262]
Большую часть наших представлений о функциях профессоров российских императорских университетов мы черпаем из законодательных актов правительства и отложившегося в архивах делопроизводства. Это тексты, фиксировавшие или регулировавшие поведенческие практики университетского человека в пределах учебного заведения. То, что применительно к XVIII и первой половине XIX в. в большинстве случаев это совпадало с пространством социальной активности профессора, подтвердили появившиеся в печати в конце XIX столетия воспоминания профессоров и студентов. Мемуары же более позднего времени – начала XX в. – убеждают нас в том, что для рубежа веков характерно расширение образовательного пространства за счет кружков и домашних семинаров, а также выход профессоров за пределы учебных аудиторий, кабинетов и лабораторий в публичное пространство политики, предпринимательства и социальной экспертизы. При этом участие профессоров в заседаниях государственной думы и государственного совета, в министерских комиссиях, в коммерческой деятельности, выступления в периодической печати и прочие социальные высказывания не зафиксировались в протоколах университетского совета и не регулировались университетскими уставами.
Для улавливания этих высказываний исследователь должен расставить более широкие сети, используя как послужные списки профессоров, так и «архивы идентичностей» – частные архивы профессоров, которые в годы советской власти образовали альтернативный по отношению к государственным университетским и министерскому архивам фонд. Так исторически сложилось в России, что, например, в отличие от ситуации в Германии профессорские документы не могли быть сданы в государственный архив при жизни и не выкупались университетом после смерти ученого. Только после революции 1917 г. и кардинального изменения архивной политики в нашей стране домашние архивы стали добровольно и принудительно сдаваться в государственные библиотеки и музеи. Со временем они образовали при них сеть отделов рукописей и письменных источников. Эти «архивы идентичностей» позволяют исследователям анализировать инициативные виды социальной активности российских профессоров начала XX в., реконструировать их сложную социальную идентичность.
Читать дальше