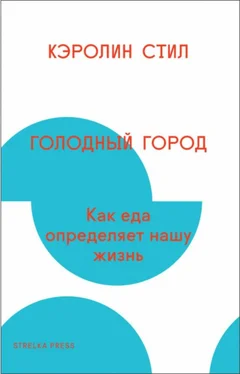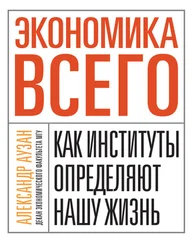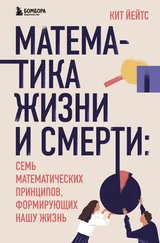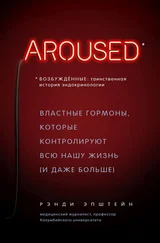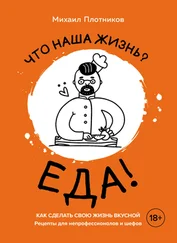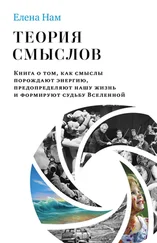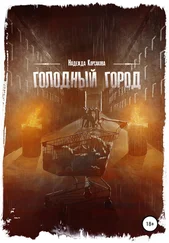С тех пор прошло 200 лет, а спор все не прекращается. И у противников, и у сторонников Мальтуса за это время появились конкретные аргументы. С одной стороны, массовый голод, начало которого он прогнозировал на середину XIX века, так и не наступил — в основном благодаря монокультурному зерновому хозяйству с использованием искусственных удобрений. С другой стороны, две крупнейшие по численности населения страны мира — Индия и Китай — сочли необходимым принять законодательные меры по контролю над численностью населения, которые, по сути, заменяют мальтусовское «нравственное самоограничение». Мнения о том, что же спасет человечество: ограничение его численности, современные технологии или новообретенное бескорыстие — по-прежнему расходятся. Одно тем не менее очевидно. Все, чего мы добились вырубкой тропических лесов и закачкой в землю бесчисленных химикатов, — это отсрочка ответа на поставленный Мальтусом вопрос. Сам вопрос от этого никуда не делся.
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
Мы никогда не считаем или не должны считать испражнения чистым убытком.
Их следует использовать в качестве навоза.
Иеремия Бентам 55
Из всех дурных привычек труднее всего избавиться от тех, что связаны с пищей. История полна примерами того, как города так или иначе погибали из-за еды. Конечно, цивилизации угасают по многим причинам: из-за недостатка знаний, изменения климата, международных неудач, даже простого невезения. Но, как отмечает Джаред Даймонд в своей книге «Коллапс», зачастую трагическую судьбу народа определяет выбор, сделанный в условиях полной информированности, даже когда факторы, которые могли бы их спасти, находятся у людей прямо перед носом 56. Изучение цивилизаций прошлого имеет свое мрачное очарование, потому что показывает нам: дилеммы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, отнюдь не новы. Борьба за выживание — неотъемлемая часть человеческого существования, как и определенная слепота в том, что касается ее последствий. Если вы не владеете акциями агроконцернов, признаки того, что наша индустриализированная система питания имеет серьезнейшие изъяны, что мы уже довольно далеко продвинулись на пути к мальтузианскому апокалипсису однозначны настолько, насколько это вообще возможно. Тем не менее, как и многие предшествующие цивилизации, мы не видим проблемы, потому что веками приучали себя ее не замечать.
Подобно тому, как чужие семейные неурядицы кажутся нам куда более понятными, чем собственные, мы можем до бесконечности обсуждать, как неправы были римляне, и не замечать при этом, что и сами совершаем те же ошибки. Но даже такие безудержные потребители, как римляне, осознавали, что отходы имеют свою ценность. Как мы помним, у них были popinae (харчевни, специализировавшиеся на торговле мясом, оставшимся от храмовых жертвоприношений), а римские агрономы высоко ценили человеческие экскременты в качестве удобрения. Впрочем, самым вопиющим случаем эксплуатации нечистот стал указ императора Веспасиана, который ради пополнения казны ввел налог на общественные туалеты. По словам Светония, когда сын императора Тит заявил, что «налог на мочу» неприличен, отец сунул ему под нос горсть монет и предложил их понюхать. «Pecunia non olet» («деньги не пахнут») стало самым знаменитым высказыванием Веспасиана 57.
Даже города индустриальной эпохи порой демонстрировали просвещенное отношение к отходам. В XIX веке в Цинциннати (повторюсь — его прозвали «Свинополи-сом» за развитую мясную промышленность) свиньям было позволено свободно бродить по городу, а закон предписывал жителям выбрасывать пищевые отбросы на середину улицы, чтобы животным было удобнее ими кормиться. Один англичанин, посетивший город в 1832 году, отмечал: «Если бы я решил прогуляться по центру города, с вероятностью пятьсот к одному я задел бы рыло, с которого капает жижа из сточной канавы, еще до того, как добрался бы до теневой стороны улицы» 58.
Но из всех городов XIX века серьезнее прочих ставку на такой подход сделал Париж. Сооруженная Османом канализационная система весьма эффективно освобождала столицу от нечистот, но течение Сены было недостаточно сильным, чтобы унести прочь все эти отходы, и на протяжении 70 километров вниз по реке от Парижа ее воды напоминали черное, пузырящееся болото. Решение, призванное устранить эту новую «угрозу снизу», стало торжеством идей таких деятелей, как Либих и Чедвик, тщетно призывавших к использованию лондонских отходов. Во Франции их единомышленником был Пьер Леру — философ и обществовед, создавший в 1834 году теорию «круговорота» в противовес прогнозам Мальтуса. Поскольку люди — не только потребители, но и производители, утверждал Леру, стоит им научиться повторно использовать собственные отходы, и пищи хватит на всех. На родине теория Леру долгое время была предметом насмешек, но, зализывая раны в эмиграции на острове Джерси, он приобрел влиятельного поклонника в лице Виктора Гюго. Писатель настолько проникся доводами Леру, что в «Отверженных» ход повествования прерывается ради рассуждений на эту тему: «Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой, — знаете, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычанье тучных коров по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь» 59.
Читать дальше