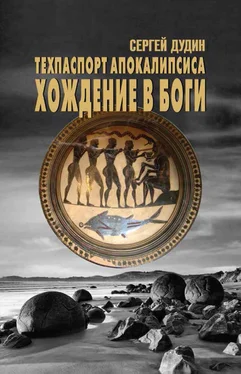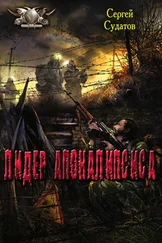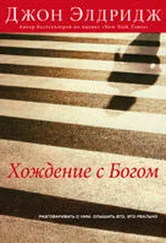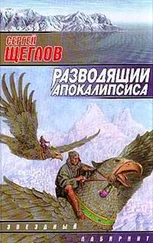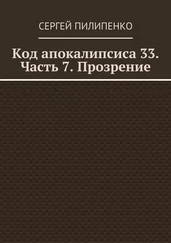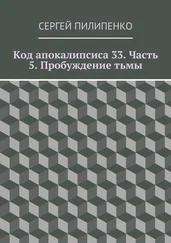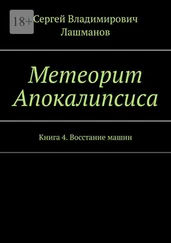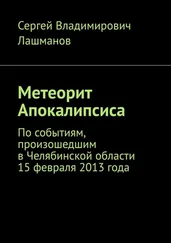Так вот: белый бычок то же, что и древнеегипетский Апис. И крылатое русское выражение это могло возникнуть лишь во времена, когда христианская догма добивала древнее космическое верование.
Так, приверженный к древним представлениям человек в попытке отстоять звёздное воззрение в полемике с христианином, получал короткую в христианском духе отповедь «Ой, не рассказывай мне сказки про белого бычка», т. е. слышать тебя не желаю, всё, что ты говоришь, мне известно и к реальности не имеет никакого отношения. Вот она мотивация, она же связь древнерусской и древнеегипетской традиций. Судя по терминологии, которую использовала дохристианская религия, имевшая ярко-выраженный космический уклон, а также наличие теории о возникновении звездных доменов как двойных систем, становится понятным многое из того, что прежде казалось лишь религиозными фантазиями далёких от понимания феномена абстрактного божества язычников.
Судя по всему, космическая суть древних преданий была утрачена незадолго до появления христианства. Очевидно, процесс её вырождения проходил уже в рамках трансформации языческой религиозной схемы. Ценной иллюстрацией этого является писание о богах, принадлежащее Варону, в котором тот особо выделяет Юпитера и Юнону как символы Неба и Земли. Юпитера он считает единым богом, почитаемым под разными именами, а других богов – лишь проявлениями его сил и свойств. Что это, как ни подтверждение научности его подхода. Вопрос в том, кому принадлежит эта научность – самому Варону или довароновскому мировоззрению. Ответ на этот вопрос однозначный – довароновскому(!), так как следы аналогичного представления мы находим и в других древних религиозных текстах, о которых Варон, будучи римлянином, надо полагать, не имел представления.
Светила и планеты для Варона – это боги, получающие свою божественность от эфира – Юпитера, т. е. неба. Юпитер для Варона не планета, а небо, включающее в себя всё небесные тела, т. е. богов.
Здесь Варон, безусловно научен, мы видим, что он пользуется профанированной версией науки, содержащей в себе признаки вырождения, а отнюдь не религиозным представлением, содержащим в себе элементы науки. Это главный вывод, который мы можем сделать из знакомства с мировоззрением Барона. В отличие от современных филологов Барон знает, что слово (название) не пустой звук, а формула, которая содержит в себе смысл называемого предмета. Он активно применяет это положение в качестве метода, когда ему необходимо прояснить смысл того или иного названия. Однако ему не хватает знаний в этой области, в силу чего он порой выдаёт такие пассажи, что хоть стой, хоть падай. Барон перечисляет более 120 имён богов, объясняя их значение через их функции.
Так, например, Меркурий становится богом речи. Его он толкует, как посредника «medius кштепа», так как речь посредничает между людьми при заключении торговых сделок. Подобного качества объяснения часто встречаются у современных филологов: точно так же, как Барон, не замечающий очевидного.
Меркурий (МИР + КУРИЙ = курирующий мир или МИР + ГУРИЙ = мировой учитель) собственно это и есть функции Меркурия – посредника между богами и людьми.
Барон где-то вычитал или прослышал, что Меркурий так же почитается, как изобретатель речи, но не будучи русским, он не видит в формуле МЕРКУРИЙ смыслов «МАЕ + РЕКУ» = = имеющий речь или «МАЕР + РЕКУ» = главный прорицатель. Отсюда и корявое объяснение.
Другим названием Меркурия было Гермес (ГорМузд) то же, что и Ахура Мазда (Гор Мист). Это тот же бог, что и египетский ГОР, который изображался с головой сокола. Он же святой Георгий, который в средние века также изображался с головой сокола. В то же время святой Христофор изображался с головой шакала. Следует верить глазам своим. Выходит, что асирийская, она же древнеегипетская традиция не прерывалась вплоть до XVII века нашей эры. Уже одно это разрушает напрочь общепринятые исторические построения.
Авестийский бог Ахура Мазда противопоставлен Анхри Манью (Ахри Маи) – темному духу зла. Похоже, автор Авесты противопоставляет Бога самому себе. Поэтому либо что-то перепутал впопыхах, либо он диалектический материалист.
Можно буквально завалить это писание примерами безграмотности Варона. Но нужно ли это? Тем более, что каждый при желании может самостоятельно ознакомиться с Вароновскими пассажами.
Я давно заметил, что учёным, свойственен поиск не сходства, а различий. Потому и результаты их работ сперва рассекают единую ткань знания на отдельные лоскуты, каждый из которых вставляется в рамочку и предлагается как нечто оригинальное. Складывать лоскуты по рисунку считается чем-то не обязательным. А ведь они прекрасно складываются. При сложении их становятся зримыми утраты, которые поддаются восстановлению. В результате возникает полнота картины. А что ещё нужно?
Читать дальше