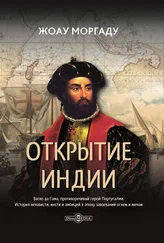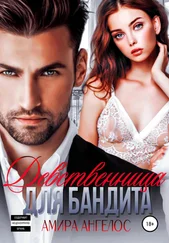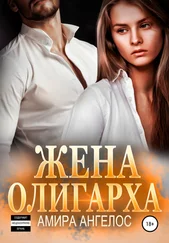Если бы мне пришлось перечислить все книги, статьи и корпусы надписей, на которых основано содержание данной книги, библиографический список, вероятно, оказался бы намного длиннее повествовательной части. Я ограничился ссылками на источники, которые процитированы или упомянуты в тексте, и на небольшое количество статей и книг, рекомендуемых для дальнейшего чтения и ссылающихся на источники и более обширную библиографию. Общая библиография также очень избирательна.
Ни библиография, ни сноски не восстановят справедливости в отношении вклада издателей и толкователей надписей в изучение эллинистического мира и Римского Востока. В их числе я с огромным уважением называю только тех, кто уже покинул нас и на чьей работе базируется наше понимание постклассического греческого мира, – Вильгельма Диттенбергера, Филиппа Готье, Петера Германа, Мориса Олло, Луи Робера, Фрэнка Уолбэнка и Адольфа Вильгельма.
Необходимо пояснение насчет транскрипции греческих имен. Обычно я не использую латинизированные формы греческих личных имен и географических названий: я пишу Miletos вместо Miletus, Pyrrhos , а не Pyrrhus , – кроме случаев, в которых латинизированная форма очень распространена (например, Polybius , а не Polybios ) или когда общеизвестна современная английская форма ( Ptolemy , а не Ptolemaios; Corinth , а не Korinthos ).
Неоценимые советы предоставили Том Харрисон и анонимный рецензент. Также я очень благодарен Майклу Фаулеру, Роберте Гердс, Генри Хайтман-Гордону, Катрин Миног и Мэтью Пиблзу за улучшение моего стиля и Эмиру Дэйкину, помогавшему мне вычитывать ссылки. Я особенно благодарен Лесли Ливен, которая оперативно и тщательно подготовила отредактированный вариант. Джон Дэйви предложил мне написать эту книгу и содействовал ее составлению, часто в трудные минуты, добрым советом и терпением. В благодарность она посвящается его памяти.
После того как Александр, сын Филиппа, Македонянин… поразил Дария, царя Персидского и Мидийского, и воцарился вместо него… он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли. И прошел до пределов земли и взял добычу от множества народов… Александр царствовал двенадцать лет и умер. И владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет; и умножили зло на земле.
Первая книга Маккавейская. 1:1–9
В этой выдержке из Первой книги Маккавейской, еврейского текста второй половины II века до н. э., сохранившегося в греческом переводе, пристрастно обобщается то, что мы традиционно называем «периодом эллинизма» – временем между походами Александра (334–324 гг. до н. э.) и смертью Клеопатры (30 г. до н. э.). Автор выражает взгляд жителя покоренной провинции, взявшегося за оружие против греческих царей и их эллинизированных сторонников из числа евреев.
Есть веские причины начать книгу об истории греков этой космополитичной эпохи цитатой из еврейского текста: во-первых, потому, что она свидетельствует о сосуществовании различных точек зрения и противоположных оценок; во-вторых, потому, что книга, бросающая вызов культурному и политическому господству греков, распространилась лишь благодаря использованию греческого языка как lingua franca [1] Lingua franca (букв. – «франкский язык») – язык межнационального общения . – Здесь и далее примечания редактора, если не указано иное.
; а в-третьих, потому, что период эллинизма обязан своим названием «эллинизаторам» – группе евреев, принявших греческие обычаи. Этот текст отражает некоторые противоположности и противоречия данной эпохи.
Что такое период эллинизма? Зачем мы его изучаем? И справедливо ли выходить за его традиционную позднюю границу, 30 год до н. э., чтобы исследовать его вместе с первыми 150 годами Римской империи как «долгий эллинизм»? Что касается его начала, смерть Александра Великого – безусловно, важный поворотный момент в истории древней Греции. Основание династий его преемниками – вероятно, наиболее заметная и наверняка наиболее своеобразная черта десятилетий, последовавших за его смертью. Земля была наполнена страданиями – возможно, не теми, что подразумевал еврейский автор Первой книги Маккавейской (религиозным и культурным угнетением иудеев), но, несомненно, муками, вызванными непрерывными войнами, несостоятельностью отдельных людей и общества в целом, а также гражданским противостоянием. Конечно, однобоко и неправильно было бы характеризовать эпоху эллинизма просто как век бедствий. Эта историческая эпоха – нечто большее, нежели просто сумма войн между преемниками Александра и основанными ими династиями, Римом, варварскими племенами, иноземными царями, городами и федерациями. Что еще заслуживает внимания в этих трех столетиях?
Читать дальше
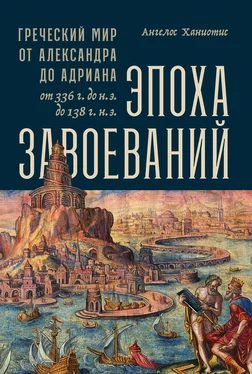
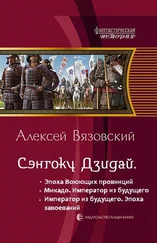

![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/398480/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o-thumb.webp)