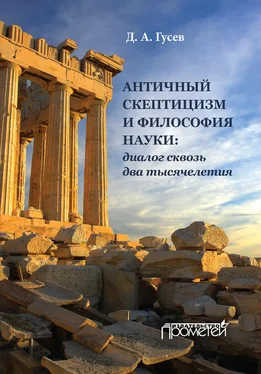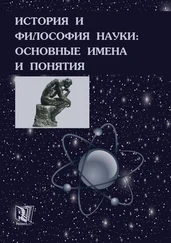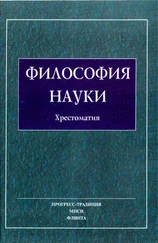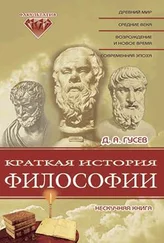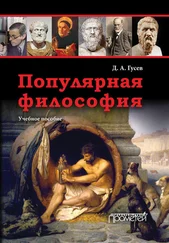Конечно же, не все свидетельства и упоминания об античном скептицизме в историко-философской литературе носят в большей или меньшей степени выраженный негативно-оценочный мотив. Есть и противоположная тенденция, которая однако представлена гораздо меньшим количеством наименований литературы, чем вышеупомянутая. Так например, Родерик Чизолм в статье «Секст Эмпирик и современный эмпиризм» говорит, что хотя и «…трудно преувеличить сходство между философскими доктринами современного научного эмпиризма и теми, которые были изложены Секстом Эмпириком, греческим врачом и скептиком III-го в. н. э., похоже, большинство историков эмпиризма игнорировало Секста». «наиболее важный философский вклад Секста, – по мнению Р. Чизолма, – состоит в следующем: во-первых, позитивистская и бихевиористская теория знака, которую он противопоставил метафизической теории стоиков; во-вторых, обсуждение феноменализма в его связи с притязаниями здравого смысла на знание; и в-третьих, рассмотрение спора вокруг принципа экстенсиональности в логике, в котором наиболее замечательным, возможно, является предвосхищение современных логических доктрин» («Alhtough it is difficult exaggerate the similarities between the philosophical doctrines of contemporary scientific empiricists and those which were expounded by Sextus Empiricus, the Greek physician and sceptic of the third century A. D., Sextus seems to have been neglected by most historians of empiricism…His most significant contributions are: first, the positivistic and behavioristic theory of signs which he opposed to the metaphysical theory of the Stoics; secondly, his discussion of phenomenalism and its relation to common sense claims to knowledge; and, thirdly, his account of the controversy over the principle of extensionality in logic, where the anticipation of contemporary doctrines is perhaps most remarkable») [110] Chilsholm R. Sextus Empiricus and modern Empiricizm // Philosophy of Science. Vol. 8. No. 3. 1941. P. 371–384. Р. 371.
.
Ни одного сочинения (монографического характера), целиком посвященного исследованию античного скептицизма, в русской дореволюционной историко-философской литературе нет. В ней мы находим также, по преимуществу, отрывочные, фрагментарные упоминания о нем.
Общий, поверхностный характер носит упоминание об античном скептицизме А.И. Герцена в «Письмах об изучении природы» [111] См.: Герцен А.И. Письма об изучении природы // Герцен А.И. Избранные философские произведения в 2 томах. Т. 1. М., 1948. С. 196–199.
. Г.В. Плеханов отмечает, что «греческий скепсис есть плод упадка» жизни и мысли [112] Плеханов Г.В. Скептицизм в философии // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. 3. М., 1957. С. 502.
. «Курс истории древней философии» С.Н. Трубецкого уделяет скептицизму минимальное внимание, а про поздних скептиков вообще не содержит ни одного упоминания [113] См.: Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии // Собрание сочинений кн. С. Н. Трубецкого. Т. V–VI. М., 1912.
. Кроме того, Трубецкой приписывает скептикам отрицательный догматизм, что неверно: «скептики отвергли всякую возможность какого бы то ни было объективного знания» [114] Там же. С. 138.
.
«Три книги пирровых положений» Секста Эмпирика, изданные в Санкт-Петербурге в 1913 году открываются обстоятельной статьей Н.В. Брюлловой-Шаскольской об античном скептицизме. Несмотря на серьезность статьи, она все же носит, по большей части, конспективный характер, освещая основные положения скептицизма Секста Эмпирика и уделяя пристальное внимание его гносеологии [115] См.: Брюллова-Шаскольская Н.В. Введение // Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений. СПб., 1913. С. 1–17.
.
В целом же в русской дореволюционной философии скептицизму не нашлось отдельного места и отношение к нему она выработала вполне негативное. Так В.С. Соловьев полагал, что скептицизм нельзя признавать за особенный тип или направление философии [116] См.: Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1988. С. 190–194.
. По его мнению современное состояние человеческого знания не является аргументом в пользу скептицизма: «Так как нам совершенно ничего неизвестно об относительном возрасте человечества, то мы не имеем права отрицать, что его предполагаемая неспособность к метафизическому познанию может быть того же рода, как неспособность говорить у трехмесячного ребенка» [117] Там же. С. 209
. Это верное замечание Соловьева тем не менее не является аргументом против скептицизма, так как последний отнюдь не отрицает будущего торжества человеческой мысли и гносеологического оптимизма уже потому, что он вообще ничего не отрицает, т. к. представляет собой буквально «ищущую» философию. Негативное отношение Соловьева к скептицизму вполне очевидно. Он полагает, например, что скептицизм «аргументирует на основании известных предвзятых идей… и является, таким образом, не более как предрассудком» [118] Там же. С. 210.
. О том же свидетельствуют и такие эпитеты: «чистый нуль безусловного скептицизма» [119] Там же. С. 225.
, «пропасть скептицизма» [120] Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т. 1. С. 740
, «пустота и ничтожество бесплодного скептицизма» [121] Там же.
.
Читать дальше