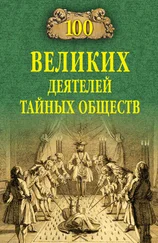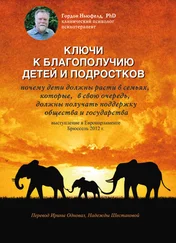ВД. Т. XX. С. 392, 544–546. Ср.: ВД. Т. XVI. С. 58, 169–170.
По утверждению Семенова, Оболенский сообщил только о своих «сомнениях насчет присяги; но более ничего не говорил…» (ВД. Т. XX. С. 391).
Там же. С. 217; ВД. Т. XX. С. 546.
ВД. Т. XX. С. 377.
ВД. Т. XVI. С. 103;
ВД. Т. III. С. 56; Т. XX. С. 375.
ВД. Т. XVI. С. 133.
ВД. Т. XX. С. 381–382, 545.
ВД. Т. XVI. С. 222. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 168. О готовящемся решении, по-видимому, было известно еще накануне, о чем свидетельствует то обстоятельство, что один из офицеров, А. Р. Цебриков, был отправлен из каземата Нарвской крепости, где он содержался, к председателю Комитета А. И. Татищеву еще 14 июня (Декабристы. С. 191).
Алфавит. С. 276.
Там же. С. 284. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 167.
Алфавит. С. 334. Ср.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 169.
Алфавит. С. 265.
Габаев Г. С. Гвардия в декабрьские дни 1825 года. Военно-историческая справка// Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926. С. 179.
ВД. Т. I. С. 9; Междуцарствие. С. 168.
ВД. Т. I. С. 30, 292; Т. XI. С. 201; Т. XIV. С. 332; Т. XVI. С. 34.
ВД. Т. XX. С. 438–439. Ср.: Там же. С. 555 (комментарий А. В. Семеновой).
ВД. Т. XVI. С. 57.
Там же. С. 42, 43, 231.
Алфавит. С. 238. Ср.: ВД. Т. XX. С. 444.
ВД. Т. IX. С. 189, 268; Т. XIII. С. 122, 55; Т. XVIII. С. 258; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 156 (С. Н. Булгари). Л. 10–10 об.
Алфавит. С. 238. Ср.: ВД. Т. XX. С. 557–558; Т. XVI. С. 58.
ВД. Т. XVI. С. 89.
Показания А. В. Поджио, М. Ф. Митькова, Е. П. Оболенского, М. С. Лунина: ВД. Т. I. С. 238; Т. III. С. 196, 122–123; Т. XI. С. 48, 60, 82.
ВД. Т. XX. С. 24; Т. XVI. С. 90.
Там же. С. 90. Текст записки: ВД. Т. XX. С. 23–25.
ВД. Т. XVI. С. 97.
См. об этом эпизоде в его воспоминаниях: Записки графа Ф. П. Толстого. С. 220–223.
ВД. Т. XX. С. 426–430, 552–553.
Следует отметить, что в Сводном полку находились офицеры, не принимавшие участия в заговоре или выступлении 14 декабря. Полк пользовался некоторыми привилегиями, через 2 года благополучно вернулся в Петербург; его состав вновь был распределен среди гвардейских полков. См. о нем: Скрутковский С. Э. Лейб-гвардии Сводный полк на Кавказе в Персидскую войну с 1826 по 1828 год. СПб., 1896.
Алфавит. С. 339.
ВД. Т. XX. С. 418–424, 550–551.
ВД. Т. XVI. С. 97; Т. XX. С. 553–554.
Там же. С. 546.
Междуцарствие. С. 170, 174.
Дело Комарова опубликовано: ВД. Т. XX. С. 393–412. См. также комментарий к нему А. В. Семеновой: С. 547–548. Мы далеки от укрепившегося в литературе отнесения Комарова к числу предателей и доносчиков. Действительно, его показания на процессе были использованы в качестве одного из первоначальных источников информации о Союзе благоденствия и его персональном составе. Слова об «измене» Комарова тайному обществу, которые содержат мемуары И. Д. Якушкина ( Якушкин И. Д. Мемуары. Статьи. Документы. Иркутск, 1993. С. 114), и фраза в записках С. Г. Волконского – «…впоследствии был доносчик» ( Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991. С. 365), по нашему мнению, отражают факт откровенных показаний Комарова на следствии и последующего его прощения. Более того, оценка Якушкина, по-видимому, есть реакция на открытое несогласие Комарова с целями политического характера, а главное, – с конкретными средствами политического действия (расчеты на военную силу вместо заложенного в уставе Союза влияния на общественное мнение и правительство), которые обсуждались в 1820–1821 гг. среди руководящих участников тайного общества; на это прямо указывают собственные показания Комарова (ВД. Т. XX. С. 399). Сколько-нибудь определенных данных об «измене» Комарова или сделанном им доносе на тайное общество обнаружить до сих пор не удалось. Если бы Комаров в действительности участвовал в агентурной деятельности против тайного общества или выступил доносчиком, то, несомненно, не преминул бы заявить об этом на следствии, по примеру И. М. Юмина. Намерение «обнаружить» общество, если оно не вернется к своей первоначальной цели – прием защиты на следствии, использованный многими подследственными в своих показаниях ( Якушкин И. Д. Мемуары… С. 336). Между тем, в показаниях Комарова отчетливо видно стремление доказать «чистоту» своих намерений – сохранить тайное общество в рамках просветительской деятельности, а кроме того, достаточно заметны его усилия спасти себя от грозящей ответственности: ведь доказывая свое несогласие с политической целью общества, он там самым обнаруживал свою осведомленность о ней. В свете сказанного позднейшие обвинения в его адрес, высказанные на уровне гипотезы, представляются неубедительными ( Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 1. С. 325, 451). Утверждение авторитетного ученого, будто Комаров после своего освобождения был заключен «для вида» в Петропавловскую крепость, основано на недоразумении: использованная исследователем в качестве доказательства сопроводительная записка Николая I относилась не к Комарову, а к вновь арестованному Т. В. Комару (Декабристы. С. 83–84). В основе негативной ауры, которая сложилась вокруг образа Комарова в историографии, лежит отношение к нему мемуариста Якушкина и особая ситуация, в которой он, как «отставший» участник Союза благоденствия, оказался на следственном процессе.
Читать дальше
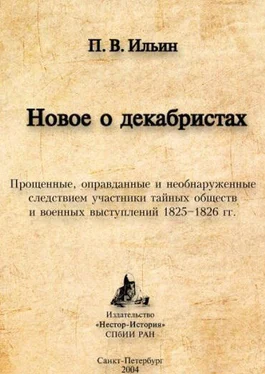

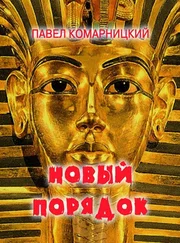

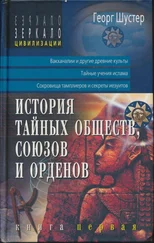

![Ефим Черняк - Невидимые империи [Тайные общества старого и нового времени на Западе]](/books/433461/efim-chernyak-nevidimye-imperii-tajnye-obchestva-sta-thumb.webp)