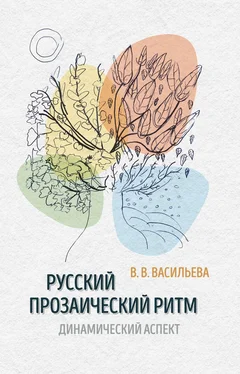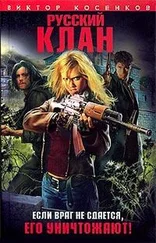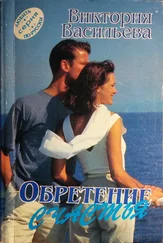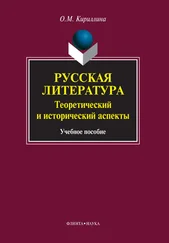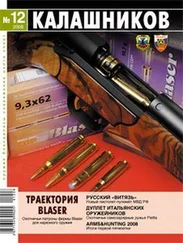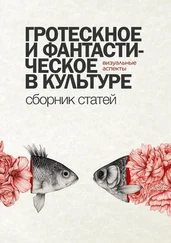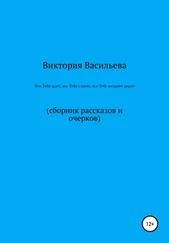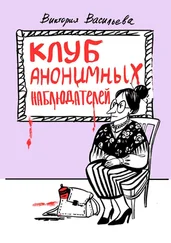Следует, однако, отметить, что деривационные процессы активно изучаются в сфере словообразования, синтаксиса, лексики и практически не изучаются на фонетическом материале. «Понятие производности, – указывает Л. Н. Мурзин, – не было распространено только на область фонетики, хотя, думается, есть основания обнаружить отношения производности и между фонетическими единицами» [1984: 81]. Между тем подтверждение этого предположения существенно обогатило бы общую дериватологическую концепцию.
Установление отношений производности между фонетическими единицами должно, очевидно, способствовать и дальнейшему более успешному моделированию процессов образования единиц в ходе порождения текста.
Понятно, что сама звуковая сторона текста – явление неоднородное: звуковой строй языка, как известно, допускает как чисто фонетический, так и фонологический подходы, которыми, однако, не исчерпывается весь звуковой строй. Обстоятельно изучены и продолжают активно исследоваться во многих новых аспектах сегментные средства языка – звуки (артикуляторная база языка, комбинаторика звуков речи, их акустические параметры, фонологические системы и т. п.). Что же касается суперсегментных единиц, они изучаются преимущественно как самостоятельные фонетические системы, как бы автономно.
Так, при изучении интонации как системы интонационных средств языка по существу не ставится задачи установить связи интонационных средств с другими суперсегментными средствами. Аналогично исследование акцентной системы языка осуществляется, как правило, вне связи ее с интонационной и слоговой системами.
Между тем, существование целостной системы суперсегментных средств языка, которая, как будет показано, находит свое воплощение в ритмической организации текста, не вызывает сомнения.
Очевидно, что исследование суперсегментных средств как системы способствовало бы и дальнейшему изучению лингвистической природы отдельных суперсегментных единиц. Отметим, кстати, что такой подход является не только значимым для фонетики как таковой, но и представляет очевидный интерес для теории дериватологии, поскольку такие единицы, как слог, такт (фонетическое слово), фраза (синтагма), период, фоноабзац и т. д., будучи единицами сложными, производными, являются удобным объектом для первой попытки установления деривационных отношений в области фонетических явлений.
Рассматривая природу ритма как фонетического явления, мы по сути имеем дело с просодическим ритмом, поскольку именно в просодии – «самом высоком уровне человеческого языка» [Жинкин: 60] – реализуется система суперсегментных языковых средств.
Термин «просодический ритм» не встречался нам в специальной литературе, при этом, по существу, многие исследователи обращаются к этому явлению. Можно сказать, что идеи теории деривационных отношений нашли свое отражение в ряде работ, хотя сами эти отношения и не описаны в соответствующих терминах.
Из множества исследований, так или иначе обращающихся к проблеме ритма, мы остановились лишь на тех, в которых ритм рассматривается применительно к организации речи, к ее звуковой стороне [2] В специальной литературе есть исчерпывающие обзоры по проблеме ритма [Харченко; Антипова 1986; Мирианашвили].
. Нас будут интересовать работы, имеющие в качестве материала прозаические тексты, поскольку природа поэтического ритма достаточно хорошо описана, а сам поэтический ритм является, на наш взгляд, предметом стилистического описания (см. об этом ниже).
Одной из центральных идей в области природы ритма является идея об иерархии ритмических единиц: «Ритмическая организация речи представляет собой сложную систему, построенную по иерархическому принципу (меньшие ритмические единицы входят в большие)» [Антипова 1984: 18]. Понимая ритм как «периодичность сходных и соизмеримых единиц» [там же], А. М. Антипова и представители возглавляемой ею школы по изучению ритма [3] На XI Международном конгрессе фонетических наук в Таллине (1987 г.) в ряду других был проведен симпозиум «Ритм и метрика» под председательством А. М. Антиповой, которая избрана на этом Конгрессе в состав Постоянного совета Конгресса фонетических наук, что свидетельствует о престижности этой школы.
пришли к выводу, что «любой речевой сегмент может стать ритмической единицей, если он оформлен как сходная и соизмеримая единица» [Антипова 1984: 5]. Вообще вопрос о ритмических единицах занимает едва ли не главное место в исследованиях: от речевых колонов, анализируемых в свое время Б. М. Томашевским и в современных трудах М. М. Гиршманом, до акцентных рядов, выдвигаемых в качестве основных ритмических единиц Н. В. Черемисиной.
Читать дальше