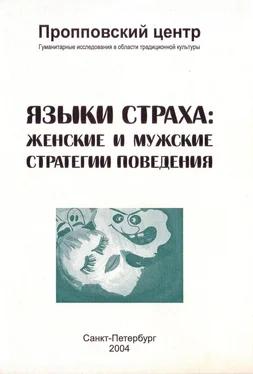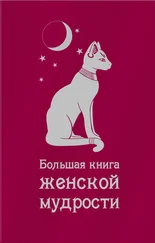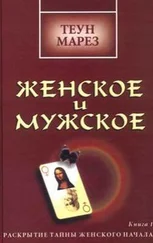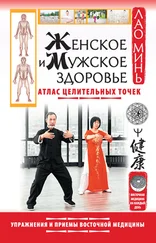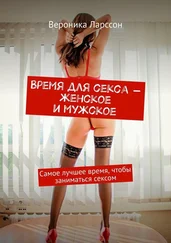Безусловно, все изложенные данные и соображения носят гипотетический характер, нуждаются в дальнейших исследованиях, анализе и проверке. Несомненно только то, что проблема отношений психологических кризисов, возрастной социализации и этнографической практики, обеспечивающей посредством определенных традиционных институтов переживание этих кризисов, составляет предмет для общих усилий этнографов, социологов и психологов.
А. М. Арьева
Страх потери
Человеческую жизнь легко представить себе как череду обретений и утрат. Доказать, что это не так, практически невозможно. В то же время народная мудрость гласит: “Не знаешь, где найдешь, где потеряешь”. То есть коллективное бессознательное не может нащупать главную точку слома, утверждает, что ее вроде бы и не существует, у каждого свои заморочки.
Мы позволим себе усомниться в этом. Если очертить ту область бытия, где потери стыкуются с обретениями, можно кое-что яснее понять в человеческой психике и, может быть, если не помочь человеку не терять что-то, то объяснить, что он боится потерять и что часто теряет прежде всего.
Видимо, это не какие-то конкретные предметы, не деньги, не любимые вещицы и прочее в том же роде. Потеряв их, мы можем переживать, но изначального страха потерь подобных ценностей в нас не заложено. Скорее всего, этот страх связан с тем, что в психологии называют не просто “ценностями”, а “базовыми ценностями”.
На простых примерах из моей работы школьного психолога я попытаюсь обобщить некоторые конкретные наблюдения, связанные со страхом потери, страхом утраты чего-то ценного у детей и их родителей. При всем индивидуальном различии в поведении и характере как тех, так и других стереотипы здесь слишком наглядны, вызваны достаточно стандартными отношениями внутри оппозиции “школа – семья”.
И дети, и родители подчас и сами доходят до причин, по которым их обуревают страхи, связанные с боязнью лишиться чего-то основополагающего в жизни. Но часто эти страхи объясняются поверхностными причинами, не то чтобы вовсе неверными, но такими, которые все равно нуждаются в дальнейшем прояснении.
Скажем сразу: на наш взгляд, основной “базовой ценностью”, лишение которой в принципе изменяет жизнь ребенка и которую ему самому труднее всего объяснить, является любовь. Именно страх потери любви сверстников, преподавателей, родителей ведет к разного рода деструктивным процессам в психической жизни. И не только детей, но и преподавателей, и родителей.
Школьные отношения вообще проникнуты смутной тревожностью, ожиданием и боязнью всяческих упреков и оскорблений. Внутренние запреты как результат этой тревожности возникают автоматически, и процесс их возникновения более чем нагляден.
Прежде всего, ребенок опасается потерять в школе чувство своей значительности, которую ему изначально гарантирует родительская любовь (о случаях, увы, не столь редких, когда она отсутствует, мы пока не говорим: нас интересует норма, а не отклонения от нее). Отношения между детьми построены так, что ребенку довольно легко представить себе, что он в чужих глазах ничего не значит. Когда он начинает убеждаться в этом, к нему приходит ощущение, что его как будто бы и вовсе нет. Никто с ним не играет, значит, – он никому не нужен, значит, – он никем не любим.
Подобный страх, можно сказать, идет за человеком по пятам, люди буквально привязываются к этому страху. Это и есть страх потери, страх потери любви. Вот типичные в этом отношении примеры из школьной жизни, списанные, что называется, “с натуры”.
Группа мальчишек договаривается на перемене сбегать за чипсами. Один из их одноклассников явно хочет присоединиться, но не решается, топчется рядом. Очень быстро, как только он приближается к ним, становится понятной причина его нерешительности: “Отвали, придурок… Навязался тут, козел…” Совершенно ясна причина изначальной нерешительности этого мальчика. Он уже опасался, что не совсем свой в компании, что с любовью к нему не относятся. Но страх еще не осознанной им самим потери этой любви (т. е. релевантных любви – симпатии, дружбы) заставляет его искать близости со своими сверстниками.
Или вот еще пример из области, так сказать, “лирических отношений”. Восьмиклассник спрашивает у меня:
– Правда ведь новенькая из 8-б – самая красивая в школе? Как бы мне с ней познакомиться?
– Да очень просто – возьми и подойди к ней…
– Не… Еще решит, что я придурок…
Читать дальше