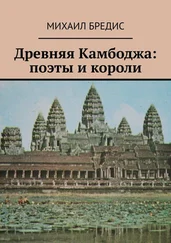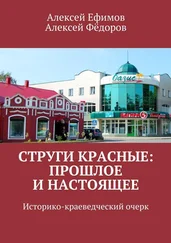С середины 1950-х гг. начинается новый этап отечественной историографии, расширяется источниковая база, формируются новые подходы к исследованию, повышается уровень научных работ. Важным результатом становится активизация городоведческих исследований. Выходят работы по истории образования городов Сибири, в которых упоминается и Берёзов (Сергеев, 1960, 1962). В эти годы возникает несколько направлений в сибирском городоведении: собственно историческое, экономико-географическое, историко-архитектурное, что заложило базу для того, чтобы в дальнейшем выработать междисциплинарный подход к проблеме изучения города. Была издана пятитомная «История Сибири» (1968), подготовка которой в значительной степени активизировала изучение региональной истории в целом и сибирского города в частности. Вместе с тем, история и развитие архитектуры городов на ее страницах не нашли всестороннего отражения.
В 1970-1980-х гг. появился ряд работ, посвященных социально-экономическому и культурному развитию отдельных городов Сибири, их истории в целом. Одна из информативных книг – работа архитектора В.И. Кочедамова, посвященная основанию и архитектуре первых сибирских городов (Кочедамов, 1978). Для этого периода можно отметить расширение источниковой и историографической базы исследований, повышение теоретического уровня работ. Крупным центром сибирского городоведения становится в это время Новосибирск, где выходит серия сборников статей по истории и архитектуре городов региона, преимущественно по феодальному периоду, где можно найти исследования и по г. Берёзову (Города Сибири, 1974; История городов Сибири, 1977; Города Сибири, 1978; Оглы, 1980; Резун, 1981, 1987; Сибирские города, 1981; Город и деревня Сибири, 1984; Историография городов Сибири, 1984; Крадин, 1989; Резун, Васильевский, 1989).
С 1990-х гг. в сибирском городоведении кроме исторических и междисциплинарных направлений (Алисов, 1997, 1998; Дмитриенко, 2000; Ивонин, 2002; Гуменюк, 2002; Скубневский, Гончаров, 2007) активно развивается историко-архитектурное направление, включая и проблематику сохранения культурного наследия (Резун, Беседина, 1992; Баландин, 1994, Развитие исторических центров сибирских городов, 1999; Кривоносова, 2003; Курилов, Майничева, 2003). В 2000-х гг. отмечается всплеск интереса к региональной истории и Берёзову. Выходят работы А.В. Ермоленко по археологии, Е.В. Вершинина, Я.Г. Солодкина, С.В. Турова, А.Т. Шашкова по истории, В.В. Фарносовой по архитектуре (Ермоленко, 2005, 2005а, 2006, 2008; Вершинин, 2000, 2005; Солодкин, 2001, 2002, 2003, 2003а, 2004, 2004а, 2004б, 2007; Туров, 2005, 2005а; Шашков, 2003, 2003а, 2003б, 2003в, 2004, 2007; Фарносова, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008).
Можно констатировать, что в исторической науке усилился интерес к городу и его историко-культурному наследию как объекту исторического изучения (Резун, 1997, с. 23). Проведено несколько конференций по этой проблематике, издан ряд сборников научных статей, популярным жанром становятся региональные исторические энциклопедии и летописи истории городов. В настоящее время накоплен значительный материал по историко-культурному развитию Берёзова, однако совершенно недостаточно разработана тематика фиксации и сохранения его архитектурного наследия.
В связи с этим наряду с историческим экскурсом в прошлое, анализом таких источников, как Памятные и Справочные книжки Тобольской губернии, Описание Тобольского наместничества, материалы Тобольского архиерейского дома, Верхотурские грамоты, Дополнения к Актам историческим, неопубликованные архивные дела, содержащиеся в Государственном архиве в г. Тобольске (ГУТО ГА, Ф. 156), Российском государственном архиве древних актов (РГАДА, Ф. 214), Санкт-Петербургском отделении Архива Российской академии наук (СПбО АРАН, Ф. 21), к которым авторы применили историко-генетический и историко-сравнительный методы исследования, был избран документальный подход, который предполагает подробную фиксацию ныне существующих памятников архитектуры Берёзова. Были выполнены описания исследуемых объектов и их фотофиксация. В настоящее время это единственная возможность сохранить хотя бы в ограниченной форме архитектурные и природные памятники, которые могут быть безвозвратно потеряны, о чем свидетельствуют наблюдения авторов, ведущиеся с 2003 г. по настоящее время. За данный период было уничтожено как минимум три объекта: мост «на ряжах», здание редакции-типографии, амбар по ул. Быстрицкого, 23.
Особую важность приобретает вопрос, связанный с определением времени постройки памятников зодчества. Не секрет, что для многих даже хорошо известных архитектурных объектов вопрос о времени их возведения остается открытым (например, дата постройки Зашиверской церкви до недавнего времени определялась как рубеж XVII – XVIII вв., Казымского острога – первая треть XVIII в.). В определенной мере это связано с тем, что вследствие пожаров, плохих условий хранения, небрежного отношения письменные источники, проясняющие ситуацию, не дошли до наших дней. Поэтому приходится прибегать к перспективным в этом направлении естественнонаучным методам исследования, в первую очередь к дендрохронологическому. Применительно к изучению архитектурных комплексов памятников деревянного зодчества это позволяет путем выполнения массовых датировок детализировать строительную историю и привнести в исследования четвертое измерение – время. Для территории Сибири массовое обследование архитектурных памятников в рамках одного поселения предпринято впервые. Наиболее близким аналогом представленной работы являются исследования Б.А. Колчина и Н.Б. Черных (Колчин, 1972; Колчин, Черных, 1977), выполненные для Великого Новгорода и европейского Севера России.
Читать дальше
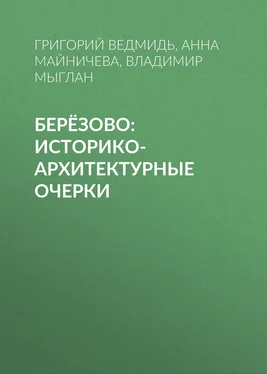
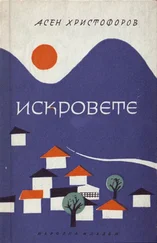

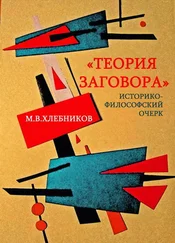
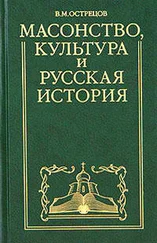
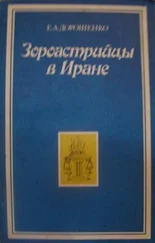



![Борис Кириков - Золотой треугольник Петербурга. Конюшенные - улицы, площадь, мосты [Историко-архитектурный путеводитель]](/books/426063/boris-kirikov-zolotoj-treugolnik-peterburga-konyushennye-ulicy-plochad-mosty-istoriko-arhitekturnyj-putevoditel-thumb.webp)