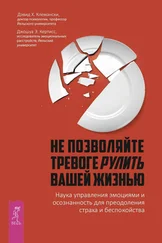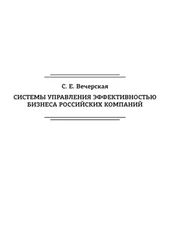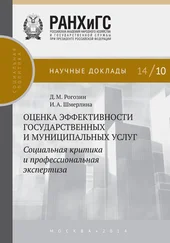Именно это расширение смысла классической научной рациональности на саму науку стоит, на наш взгляд, за утверждением возможности применения к исследованию узкого смысла экономической эффективности. Показатели результата и затрат, а также их сравнение могут быть использованы тогда, когда при заданных предпосылках (условиях развития, затратах) движение к завершению, к полезному результату, предсказуемо. «Детерминизм – гипотеза, на которой зиждется легитимация через результативность: она определяется отношением вход / выход. Нужно допустить, что система, в которой осуществляется вход, стабильна и послушно следует правильной «траекторией», в отношении которой можно установить постоянную функцию, а также отклонение, позволяющее правильно прогнозировать выход» [32] Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. С. 130.
. Именно эта предпосылка – отношение к науке как к объекту классической научной рациональности, потенциально однозначно понятому, подчиненному естественной физической причинности, а не закону свободы, – служит основанием редукции значимых различий в самой научной деятельности (например, между различными уровнями и направлениями исследования) к уже существующему единству [33] Эта «уже известность» научного знания и научной деятельности – есть условие управления и контроля, условие измерения эффективности. Однако такое отношение к объекту не допускает непредсказуемости и новизны в его развитии. Парадоксальным образом, такое управление наукой оставляет «невидимым» инновационную деятельность, научные открытия, однако ожидает и «требует» их. Возможно ли такое управление, которое учитывает «пересборку науки» и ее возможную новизну? В любом случае более или менее явно выраженной теоретической предпосылкой такого управления должен быть тезис: «Нет такой известной вещи как наука». Б. Латур делает подобное понимание общества – отсутствие его как уже понятной данности, – предметом и задачей новой социологии ассоциаций. Эта социология одновременно может быть названа «социологией инноваций», поскольку включает в поле своей «предметности» потенциальности и изменения. ( Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом Высшая школа экономики, 2014. С. 16, 22).
. Эта предпосылка объясняет и невнимание к автономии научных субъектов, которые, превращенные в винтики механизма детерминированного производства предсказуемого результата, закономерно лишаются возможной роли «управления собой».
Следует подчеркнуть, что в самом определении научной деятельности присутствует закономерность возникновения такого превращенного отношения к ней, как к объекту, подчиненному естественной причинности. Объективность языка науки, как независимость его от субъекта, вводится в качестве критерия научности в силу того, что ученый, по крайней мере, с начала XIX века, занимаясь научной работой, стремится стереть всякое присутствие субъективности в визуальных изображениях или концептуальных описаниях объекта, в теоретических объяснениях или экспериментальных подтверждениях. Как следствие, научная репрезентация в письменном тексте, речи, образе, скрывая условия своего производства и тем самым связь с производителем, может поступить и фактически поступает в полное распоряжение потребителей, оказывается предметом внешнего сравнения значимости и оценки. Дескриптивный объективированный язык науки, истолкованный в контексте эволюционной эпистемологии К. Поппера, позволяет ученым выживать в конкуренции научных теорий [34] Различие между амебой и Эйнштейном, по Попперу, в том, какими средствами они ведут борьбу за существование, приспосабливаясь к окружающему миру. Для амебы таким орудием приспособления является ее собственный организм; совершив ошибку, она умирает. Споры ученых – это также борьба за существование, но в случае ошибки умирают не подтвердившие собственную правоту теории (см.: Поппер К. Эволюционная эпистемология).
. Однако единственным следствием и целью этого выживания может оказаться подчинение механизму тиражирования и воспроизводства этого анонимного языка, если сам ученый не будет настаивать на пределах его объективации, и, соответственно, на пределах отчужденного существования в ситуации экономического обмена благами. Только в этом случае, утверждая собственное авторство, ученый сможет оправданно претендовать на управление собственной деятельностью и ее результатами, а не просто критиковать мешающее развитию науки администрирование. В этом и состоит существо проблемы эффективности научных исследований: классическая научная рациональность, утверждая свободу от субъективности, сама тем самым создает условия возможности отчужденных форм управления научными исследованиями, создающих вызов для науки в современности.
Читать дальше
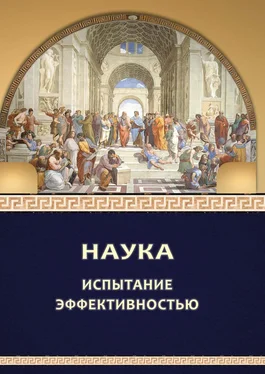

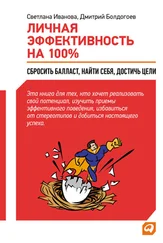
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 11 (18)](/books/389065/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2007 № 02 (9)](/books/390409/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 07 (7)](/books/390441/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)
![Журнал Наука и Техника (НиТ) - «Наука и Техника» [журнал для перспективной молодежи], 2006 № 04 (4)](/books/390444/zhurnal-nauka-i-tehnika-nit-nauka-i-tehnika-thumb.webp)
![Дмитрий Евдокимов - Испытание Зензерой (Вояж на Зензеру) [CИ]](/books/423706/dmitrij-evdokimov-ispytanie-zenzeroj-voyazh-na-zenz-thumb.webp)